Пьер Бурдье, Гюнтер Грасс, Литература: взгляд изнутри
Проблема общественной роли интеллектуала — и его морального долга, если предположить, что таковой существует, — всегда разрешалась путем выбора неустойчивой позиции между Сциллой популярности и Харибдой маргинальности. Беседа социолога Пьера Бурдье и нобелевского лауреата Гюнтера Грасса, отрывки из которой одновременно напечатали французская ежедневная Le Monde и немецкая еженедельная Die Zeit, посвящена общественной роли интеллектуалов, стилистическим практикам в социологии и литературе, экономике неолиберального общества и формированию нового миропорядка. Бурдье — профессор философии College de France, основатель журнала «Actes de la recherche en sciences sociales» (1975) и автор книг «Благородство государства» (1996), «Принципы искусства» (1996), «О телевидении» (1998), «Тяжесть мира» (1999) и «Размышления о Паскале» (2000). Грасс, уроженец Данцига (ныне Гданьск), называющий себя писателем-гражданином, в 1999 году удостоен Нобелевской премии по литературе. Среди его книг — «Жестяной барабан» (1959), «Из дневника улитки» (1972), «Крыса» (1987), «Собачьи годы» (1989), «Камбала» (1989) и «Мое столетие» (1999).
Среди его книг — «Жестяной барабан» (1959), «Из дневника улитки» (1972), «Крыса» (1987), «Собачьи годы» (1989), «Камбала» (1989) и «Мое столетие» (1999).
Пьер Бурдье: Вы как-то говорили о «то ли европейском, то ли чисто немецком обычае» — кстати, это обычай в той же мере и французский — «разевать рот как можно шире». Я очень рад, что Вы стали нобелевским лауреатом, я также рад, что Нобелевская премия Вас не изменила, что Вы и сейчас все так же «разеваете рот». Надеюсь, сейчас мы с Вами поразеваем рты вдвоем.
Гюнтер Грасс: На германской почве социологу и писателю редко выпадает случай встретиться. У меня на родине философы обычно кучкуются в одном углу, социологи — в углу напротив, а писатели оттаптывают друг другу любимые мозоли в глубине комнаты. Беседа, подобная нашей, — исключение из правил. Когда я думаю о Вашей книге «Тяжесть мира» и моем последнем романе «Мое столетие», я вижу в них нечто общее: мы оба пытаемся заново пересказать Историю — так, как мы видим ее изнутри. Мы не ведем разговор за спиной у общества, мы не воображаем себя завоевателями Истории. Как от нас и ожидают в силу наших профессий, мы охотнее встаем на сторону неудачников, тех, кто оттеснен на обочину, тех, кто вычеркнут из общества. В «Тяжесть мира» Вы и Ваши соавторы сумели отвлечься от собственных индивидуальностей и построили работу на том, чтобы просто выслушать и попытаться понять своих собеседников, не претендуя на то, что все знаете лучше них. Результат — моментальный снимок социальной картины и современного состояния французского общества, легко приложимый и к другим странам. Я, писатель, волей-неволей воспринимаю Вашу работу как источник материала. Чего стоит хотя бы рассказ о молодой женщине, приехавшей в Париж из провинции, чтобы сортировать по ночам почту. Описание ее работы ненарочито и неназойливо раскрывает перед читателем важные социальные проблемы. Мне это очень понравилось. Было бы хорошо, если бы подобная книга о состоянии общества была написана в каждой стране.
Мы не ведем разговор за спиной у общества, мы не воображаем себя завоевателями Истории. Как от нас и ожидают в силу наших профессий, мы охотнее встаем на сторону неудачников, тех, кто оттеснен на обочину, тех, кто вычеркнут из общества. В «Тяжесть мира» Вы и Ваши соавторы сумели отвлечься от собственных индивидуальностей и построили работу на том, чтобы просто выслушать и попытаться понять своих собеседников, не претендуя на то, что все знаете лучше них. Результат — моментальный снимок социальной картины и современного состояния французского общества, легко приложимый и к другим странам. Я, писатель, волей-неволей воспринимаю Вашу работу как источник материала. Чего стоит хотя бы рассказ о молодой женщине, приехавшей в Париж из провинции, чтобы сортировать по ночам почту. Описание ее работы ненарочито и неназойливо раскрывает перед читателем важные социальные проблемы. Мне это очень понравилось. Было бы хорошо, если бы подобная книга о состоянии общества была написана в каждой стране.
Единственное, что меня поразило, видимо, имеет отношение к социологии как таковой: в сочинениях подобного рода нет юмора. В них не подчеркиваются ни комизм неудач, играющий столь важную роль в моих книгах, ни изначальная абсурдность некоторых житейских конфликтов.
П.Б.: Вы превосходно описали ряд таких ситуаций. Однако тот, кто слышит подобные истории прямо от действующих лиц, обычно бывает сметен, захлестнут переживаниями, и ему не всегда удается сохранять отстраненность. Мы, например, почувствовали, что монологи некоторых героев из книги придется убрать — слишком уж они были резки, или слишком трагичны, или слишком болезненны.
Г.Г.: Говоря о комизме, я вовсе не имею в виду, что трагедия и комедия взаимно исключают друг друга, что между ними есть четкая грань.
П.Б.: Конечно… Это действительно так… Наша цель, по сути, заключалась в том, чтобы, не используя никаких специальных средств, продемонстрировать читателю этот чистейший абсурд. Мы взяли себе за правило ни в коем случае не обрабатывать монологи литературно. Возможно, это Вас изумит, но когда имеешь дело с подобными жизненными драмами, всегда испытываешь искушение их приукрасить. Правило у нас было такое: любой ценой придерживаться фактов — насколько это возможно; сохранить особую, почти невыносимую атмосферу жестокости, которой эти монологи были насыщены. Мы делали это по двум причинам: во-первых, так корректнее с научной точки зрения; во-вторых, мы решили не стремиться к литературности, чтобы достичь литературности другого рода. Были и политические соображения. Мы чувствовали, что жестокость современных неолиберальных режимов, задающих тон в Европе, Латинской Америке и многих других регионах, — жестокость системы — настолько чудовищна, что ее не объяснишь с помощью одних лишь средств умозрительного анализа. Никакая критика не уравновесит масштабы воздействия такой политической системы.
Мы взяли себе за правило ни в коем случае не обрабатывать монологи литературно. Возможно, это Вас изумит, но когда имеешь дело с подобными жизненными драмами, всегда испытываешь искушение их приукрасить. Правило у нас было такое: любой ценой придерживаться фактов — насколько это возможно; сохранить особую, почти невыносимую атмосферу жестокости, которой эти монологи были насыщены. Мы делали это по двум причинам: во-первых, так корректнее с научной точки зрения; во-вторых, мы решили не стремиться к литературности, чтобы достичь литературности другого рода. Были и политические соображения. Мы чувствовали, что жестокость современных неолиберальных режимов, задающих тон в Европе, Латинской Америке и многих других регионах, — жестокость системы — настолько чудовищна, что ее не объяснишь с помощью одних лишь средств умозрительного анализа. Никакая критика не уравновесит масштабы воздействия такой политической системы.
Г.Г.: Оба мы, социолог и писатель, — дети европейского Просвещения, традиции которого сегодня поставлены под сомнение практически повсюду — по крайней мере, во Франции и в Германии. Невозможно отделаться от мысли, что европейское движение за Aufklarung, за просвещение, захлебнулось. Многое из того, что было присуще Просвещению — вспомним хотя бы Монтеня, — утрачено. Чувство юмора в том числе. К примеру, описание общественных реалий в «Кандиде» Вольтера и «Жаке-фаталисте» Дидро приводит в ужас. И все-таки, даже страдая и бедствуя, их персонажи не теряют способности видеть во всем смешную сторону, а значит, и побеждать.
Невозможно отделаться от мысли, что европейское движение за Aufklarung, за просвещение, захлебнулось. Многое из того, что было присуще Просвещению — вспомним хотя бы Монтеня, — утрачено. Чувство юмора в том числе. К примеру, описание общественных реалий в «Кандиде» Вольтера и «Жаке-фаталисте» Дидро приводит в ужас. И все-таки, даже страдая и бедствуя, их персонажи не теряют способности видеть во всем смешную сторону, а значит, и побеждать.
П.Б.: Да, но ощущение утраты традиций Просвещения связано с полным пересмотром нашего мировидения, который обусловлен доминирующей сегодня идеологией неолиберализма. Я думаю (здесь, в Германии, подобное сравнение напрашивается), что нынешняя неолиберальная революция — это революция консервативная (в том смысле, в каком говорили о консервативной революции в Германии в тридцатые годы). А консервативная революция — очень странное явление: это революция, которая реставрирует прошлое и в то же время выдает себя за прогрессивную, революция, которая превращает регресс в прогресс и делает это настолько успешно, что те, кто противится регрессу, воспринимаются как его сторонники. Те, кто противится террору, в конечном счете воспринимаются как террористы. Нам с Вами это известно не понаслышке: мы ведь добровольно причислили себя к архаистам — по-французски таких, как мы, называют ringards (старомодными), arrieres (несовременными).
Те, кто противится террору, в конечном счете воспринимаются как террористы. Нам с Вами это известно не понаслышке: мы ведь добровольно причислили себя к архаистам — по-французски таких, как мы, называют ringards (старомодными), arrieres (несовременными).
Г.Г.: Dinosauria…
П.Б.: Именно: динозаврами. Вот какова мощь консервативной революции — иначе говоря, «прогрессивной» реставрации. Ваши собственные недавние слова, согласитесь, подтверждают мою мысль. Нас упрекают в занудстве. Но ведь и эпоха не располагает к веселью! Смеяться-то совершенно не над чем.
Г.Г.: Я и не думал утверждать, что в нашей эпохе есть что-либо забавное. Но тот инфернальный смех, который можно вызвать средствами литературы, — это ведь тоже одна из форм протеста против наших социальных условий. То, что нам сегодня подсовывают под видом идеологии неолиберализма, на самом деле возвращает нас в XIX век, к методам манчестерского либерализма. В семидесятые годы на большей части Европы была предпринята попытка окультуривания капитализма, увенчавшаяся некоторым успехом. Если верить в то, что социализм и капитализм — очаровательные и избалованные дети Просвещения, тогда придется признать, что эти детишки нашли способ держать друг друга под контролем. Даже капитализму пришлось взять на себя некоторые обязанности. В Германии это называлось социальной рыночной экономикой, и здесь общее мнение (к которому присоединилась и партия консерваторов) было таково, что ситуация Веймарской республики никогда не должна повториться. Эта общность интересов распалась в начале восьмидесятых. Когда была разрушена коммунистическая иерархия, капитализм возомнил, что может делать все, что ему заблагорассудится, что его некому больше контролировать. Главный его противник — его полярная противоположность — вышел из игры. Те редкие капиталисты, которые все еще сохраняют некоторую ответственность, взывают к нашему благоразумию и делают это потому, что понимают: чувство направления утрачено, и неолиберальная система сейчас повторяет ошибки коммунизма, рождая собственную догму, собственное свидетельство непогрешимости.
В семидесятые годы на большей части Европы была предпринята попытка окультуривания капитализма, увенчавшаяся некоторым успехом. Если верить в то, что социализм и капитализм — очаровательные и избалованные дети Просвещения, тогда придется признать, что эти детишки нашли способ держать друг друга под контролем. Даже капитализму пришлось взять на себя некоторые обязанности. В Германии это называлось социальной рыночной экономикой, и здесь общее мнение (к которому присоединилась и партия консерваторов) было таково, что ситуация Веймарской республики никогда не должна повториться. Эта общность интересов распалась в начале восьмидесятых. Когда была разрушена коммунистическая иерархия, капитализм возомнил, что может делать все, что ему заблагорассудится, что его некому больше контролировать. Главный его противник — его полярная противоположность — вышел из игры. Те редкие капиталисты, которые все еще сохраняют некоторую ответственность, взывают к нашему благоразумию и делают это потому, что понимают: чувство направления утрачено, и неолиберальная система сейчас повторяет ошибки коммунизма, рождая собственную догму, собственное свидетельство непогрешимости.
П.Б.: Да, но сила неолиберализма в том, что (по крайней мере, в Европе) его насаждали люди, называющие себя социалистами. Герхард Шредер, Тони Блэйр, Лионель Жоспен — все они привлекают социалистические идеи к делу продвижения неолиберализма.
Г.Г.: Это уступка экономическим требованиям.
П.Б.: В то же время стало безумно трудно сформировать критическую оппозицию левым силам социально-демократических правительств. Во Франции мощная забастовка 1995 года мобилизовала значительную часть населения: рабочих, служащих и многих других, включая и интеллектуалов. Потом была еще целая серия акций протеста: демонстрация безработных, европейский марш протеста против безработицы, акция протеста нелегальных иммигрантов и так далее. Общество находилось в постоянном волнении, и это заставило социал-демократов хотя бы сделать вид, что они готовы принять участие в своего рода дискуссии на тему социализма. На деле же это движение протеста все еще остается очень слабым — главным образом потому, что оно ограничено масштабами одного государства. Как мне кажется, одна из основных наших задач на политическом поприще — это понять, каким образом мы можем в международном масштабе создать оппозицию социально-демократическим правительствам, способную оказывать на них реальное воздействие. Думаю, что в настоящий момент попытка организации общеевропейского общественного движения имеет очень мало шансов на успех. В связи с этим я задаюсь следующим вопросом: какой вклад мы, интеллектуалы, можем сделать в это движение — ведь без него обойтись нельзя: что бы там ни говорили неолибералы, любое социальное завоевание в истории достигалось только борьбой. Если мы хотим построить «европейское сообщество», как они это называют, мы должны организовать общеевропейское общественное движение. И я думаю — таково мое ощущение, — что интеллектуалы несут большой груз ответственности за организацию такого движения, ведь политическое господство имеет не только экономическую, но и интеллектуальную природу. Вот почему я убежден в том, что мы должны «разевать рот как можно шире» и пытаться возродить нашу утопию, ведь одна из особенностей нынешних неолиберальных правительств заключается в том, что они стремятся покончить с утопиями.
Как мне кажется, одна из основных наших задач на политическом поприще — это понять, каким образом мы можем в международном масштабе создать оппозицию социально-демократическим правительствам, способную оказывать на них реальное воздействие. Думаю, что в настоящий момент попытка организации общеевропейского общественного движения имеет очень мало шансов на успех. В связи с этим я задаюсь следующим вопросом: какой вклад мы, интеллектуалы, можем сделать в это движение — ведь без него обойтись нельзя: что бы там ни говорили неолибералы, любое социальное завоевание в истории достигалось только борьбой. Если мы хотим построить «европейское сообщество», как они это называют, мы должны организовать общеевропейское общественное движение. И я думаю — таково мое ощущение, — что интеллектуалы несут большой груз ответственности за организацию такого движения, ведь политическое господство имеет не только экономическую, но и интеллектуальную природу. Вот почему я убежден в том, что мы должны «разевать рот как можно шире» и пытаться возродить нашу утопию, ведь одна из особенностей нынешних неолиберальных правительств заключается в том, что они стремятся покончить с утопиями.
Г.Г.: Социалистические и социал-демократические партии отчасти поддержали эту идею, заявив, что крушение коммунизма сотрет с лица земли и социализм. Они утратили веру в общеевропейское рабочее движение, которое, заметьте, родилось задолго до коммунизма. Отрекаясь от собственных традиций, отрекаешься и от самого себя. В Германии было всего несколько робких попыток создания организации безработных. Годы и годы я пытался убедить профсоюзных деятелей: нельзя довольствоваться одним лишь объединением тех, у кого есть работа, — тех, кто, потеряв эту работу, станет падать в бездонную пропасть. Вы должны организовать профсоюз безработных граждан Европы. Мы сетуем на то, что объединение Европы идет лишь на экономическом уровне, но ведь сами профсоюзы не прилагают никаких усилий, чтобы создать такую организацию, которая позволила бы выйти за пределы одной нации и иметь влияние и за границей. Мы должны создать противовес глобальному неолиберализму. Однако, по правде говоря, большинство нынешних интеллектуалов глотает все без разбору и лишь зарабатывает себе на этом язву. Поэтому я не думаю, что мы должны рассчитывать только на интеллектуалов. По моему ощущению, французы не сомневаются в своих «интеллектуалах»; что же касается Германии, я на собственном опыте убедился, что причислять всех интеллектуалов к левым ошибочно. Доказательства тому может предоставить вся история двадцатого века, в том числе и эпоха нацизма: Геббельс, к примеру, был интеллектуалом. Так что для меня принадлежность к интеллектуальной элите не является показателем «качества». Как видно из Вашей книги «Тяжесть мира», те, кто в свое время были рабочими, членами профсоюзов, в социальной сфере часто оказываются опытней интеллектуалов. Эти люди сейчас остались без работы или ушли на пенсию, и, похоже, никто в них больше не нуждается. Их потенциал так и остается невостребованным.
Поэтому я не думаю, что мы должны рассчитывать только на интеллектуалов. По моему ощущению, французы не сомневаются в своих «интеллектуалах»; что же касается Германии, я на собственном опыте убедился, что причислять всех интеллектуалов к левым ошибочно. Доказательства тому может предоставить вся история двадцатого века, в том числе и эпоха нацизма: Геббельс, к примеру, был интеллектуалом. Так что для меня принадлежность к интеллектуальной элите не является показателем «качества». Как видно из Вашей книги «Тяжесть мира», те, кто в свое время были рабочими, членами профсоюзов, в социальной сфере часто оказываются опытней интеллектуалов. Эти люди сейчас остались без работы или ушли на пенсию, и, похоже, никто в них больше не нуждается. Их потенциал так и остается невостребованным.
П.Б.: С Вашего позволения я еще раз совсем ненадолго вернусь к книге «Тяжесть мира». Это попытка наделить интеллектуалов еще одной ролью, гораздо более скромной и, как мне верится, гораздо более важной, нежели те, что им обычно приписывают: ролью «писателя от имени общества». Писатель от имени общества — я встречал таких в странах Северной Америки — это тот, кто умеет писать и дает пользоваться своим умением другим, чтобы они могли рассказать о чем-то, что им известно гораздо лучше, чем самому писателю. Социологи находятся в уникальном положении. От других интеллектуалов их отличает то, что они обычно (хотя и не всегда) умеют слушать и знают, как расшифровать то, что они услышали, как это записать и передать дальше.
Писатель от имени общества — я встречал таких в странах Северной Америки — это тот, кто умеет писать и дает пользоваться своим умением другим, чтобы они могли рассказать о чем-то, что им известно гораздо лучше, чем самому писателю. Социологи находятся в уникальном положении. От других интеллектуалов их отличает то, что они обычно (хотя и не всегда) умеют слушать и знают, как расшифровать то, что они услышали, как это записать и передать дальше.
Г.Г.: Но это также означает, что мы должны обратиться и к интеллектуалам, живущим в непосредственном контакте с неолиберализмом. Среди них есть и такие, кто начинает спрашивать себя, не пришло ли время найти способ противодействия этому глобальному обращению капитала, которое не поддается ни малейшему контролю, этой особой форме помешательства, сопутствующей капитализму. Возьмем хотя бы все эти бесцельные и беспричинные слияния предприятий, в результате которых увольняют «по сокращению» две, пять, десять тысяч человек. Все, что имеет отношение к оценочным операциям на фондовом рынке, делается ради максимизации прибыли.
Все, что имеет отношение к оценочным операциям на фондовом рынке, делается ради максимизации прибыли.
П.Б.: Да, но, к сожалению, дело не только в том, чтобы высказаться против доминирующей точки зрения, претендующей на статус мнения большинства, и оспорить ее. Если мы хотим получить результаты, мы должны сделать так, чтобы наша критика была услышана широкой общественностью. Доминирующая точка зрения постоянно посягает на наше собственное мнение. Подавляющее большинство журналистов втягиваются в этот процесс, подчас неосознанно, и разрушить иллюзию единодушия безумно сложно. Во-первых, потому, что, к примеру, во Франции тем, кто не признан обществом и не знаменит, сложно пробиться к массам. Когда в начале нашей беседы я выразил надежду на то, что Вы и дальше будете «разевать рот», я сделал это потому, что, как мне кажется, лишь известные общественные деятели могут разорвать этот порочный круг. Но, к сожалению, очень часто они известны именно потому, что не задают лишних вопросов и ведут себя тихо — ведь мы сами хотим видеть их такими, — и лишь очень немногие пускают в оборот символический капитал, который дает им их положение в обществе, и высказываются, громко и открыто, чтобы голоса тех, кто не может сказать сам за себя, были услышаны. В «Моем столетии» Вы обращаетесь к целому ряду исторических событий. Некоторые из описанных Вами эпизодов тронули мое сердце: например, рассказ о маленьком мальчике, которого взяли на демонстрацию в поддержку Либкнехта и который написал отцу на спину. Не знаю, основан ли этот эпизод на Ваших личных воспоминаниях, но, так или иначе, Вы сумели в оригинальной манере рассказать о том, что такое социализм. Мне также очень понравилось то, что Вы написали о Юнгере и Ремарке: между строк вам удалось сказать многое о роли и участии интеллектуалов в некоторых трагических событиях — даже тех, против которых они были настроены критически. Мне понравилось и то, что Вы написали о Хайдеггере. Я понял, что это тоже нас с Вами сближает. Я произвел полный анализ речей Хайдеггера, страшные последствия которых во Франции продолжают сказываться и по сей день.
В «Моем столетии» Вы обращаетесь к целому ряду исторических событий. Некоторые из описанных Вами эпизодов тронули мое сердце: например, рассказ о маленьком мальчике, которого взяли на демонстрацию в поддержку Либкнехта и который написал отцу на спину. Не знаю, основан ли этот эпизод на Ваших личных воспоминаниях, но, так или иначе, Вы сумели в оригинальной манере рассказать о том, что такое социализм. Мне также очень понравилось то, что Вы написали о Юнгере и Ремарке: между строк вам удалось сказать многое о роли и участии интеллектуалов в некоторых трагических событиях — даже тех, против которых они были настроены критически. Мне понравилось и то, что Вы написали о Хайдеггере. Я понял, что это тоже нас с Вами сближает. Я произвел полный анализ речей Хайдеггера, страшные последствия которых во Франции продолжают сказываться и по сей день.
Г.Г.: Для меня в этой истории о Либкнехте важно то, что, с одной стороны, там есть Либкнехт, будоражащий умы молодежи, — прогрессивное движение за социализм только-только начинает набирать силу — а с другой стороны, отец, который настолько увлечен происходящим, что не замечает, что сыну, сидящему у него на плечах, нужно спуститься вниз. Когда мальчик писает отцу на спину, отец задает ему хорошую трепку. Последствия этой авторитарности сказываются позже: мальчик добровольно записывается в армию, когда начинается мобилизация на Первую мировую войну, — то есть делает совершенно противоположное тому, к чему призывал молодых людей Либкнехт. В «Моем столетии» я рассказываю о профессоре, вспоминающем о своей реакции на события 1966, 67 и 68 годов. Поначалу в своих действиях он всегда исходил из высоких философских понятий. К этому же он в итоге и вернулся. В промежутке у него случилось несколько приступов радикализма: он был одним из тех, кто публично стащил со сцены и чуть ли не разорвал на куски Адорно. Это типичная для нашей эпохи биография. События шестидесятых годов меня захлестнули. Студенческие демонстрации стали частью нашей жизни, они сдвинули с места многие процессы, несмотря на то, что ораторы псевдореволюции шестьдесят восьмого года и не соглашаются признать некоторые из их заслуг. Другими словами, революции не случилось — для нее не было предпосылок, — но общество изменилось.
Когда мальчик писает отцу на спину, отец задает ему хорошую трепку. Последствия этой авторитарности сказываются позже: мальчик добровольно записывается в армию, когда начинается мобилизация на Первую мировую войну, — то есть делает совершенно противоположное тому, к чему призывал молодых людей Либкнехт. В «Моем столетии» я рассказываю о профессоре, вспоминающем о своей реакции на события 1966, 67 и 68 годов. Поначалу в своих действиях он всегда исходил из высоких философских понятий. К этому же он в итоге и вернулся. В промежутке у него случилось несколько приступов радикализма: он был одним из тех, кто публично стащил со сцены и чуть ли не разорвал на куски Адорно. Это типичная для нашей эпохи биография. События шестидесятых годов меня захлестнули. Студенческие демонстрации стали частью нашей жизни, они сдвинули с места многие процессы, несмотря на то, что ораторы псевдореволюции шестьдесят восьмого года и не соглашаются признать некоторые из их заслуг. Другими словами, революции не случилось — для нее не было предпосылок, — но общество изменилось. В книге «Из дневника улитки» я рассказываю, как кричали мои студенты, когда я им сказал: «Прогресс — это улитка». Лишь немногие смогли в это поверить. Мы оба уже достигли того возраста, когда — я согласен с Вами — можем спокойно «разевать рты», пока нам позволяет здоровье; но наше время ограничено. Не знаю, как во Франции, — думаю, что ничуть не лучше, чем у нас, — но, по моему ощущению, молодое поколение немецких литераторов не проявляет большой склонности или интереса к сохранению традиции эпохи просвещения — традиции разевания ртов и собственного вмешательства. Если эта ситуация не изменится, не произойдет «смены караула», то и эта черта европейской традиции будет утеряна.
В книге «Из дневника улитки» я рассказываю, как кричали мои студенты, когда я им сказал: «Прогресс — это улитка». Лишь немногие смогли в это поверить. Мы оба уже достигли того возраста, когда — я согласен с Вами — можем спокойно «разевать рты», пока нам позволяет здоровье; но наше время ограничено. Не знаю, как во Франции, — думаю, что ничуть не лучше, чем у нас, — но, по моему ощущению, молодое поколение немецких литераторов не проявляет большой склонности или интереса к сохранению традиции эпохи просвещения — традиции разевания ртов и собственного вмешательства. Если эта ситуация не изменится, не произойдет «смены караула», то и эта черта европейской традиции будет утеряна.
Дата публикации: 11 Августа 2000 года. Немецкое телевидение
Перевод Ольги Юрченко
Источник:Русский журнал
ГЕРБЕРТ В. ФРАНКЕ (ФРГ) Жанр утопии дает нам возможность создавать модель завтрашнего мира. При этом меня, как естествоиспытателя, интересуют прежде всего те изменения во всех сферах жизни, которые будут обусловлены техникой, кибернетикой, психологией и т. д. Я рассматриваю фантастику не как пророчество, а как изображение благоприятных и неблагоприятных возможностей, над которыми следует задуматься. От решений, принятых сегодня, зависит и то, что ждет нас завтра. Прошлое нас только учит, на будущее мы еще можем воздействовать; вот почему будущее для нас намного интересней прошлого, а утопический роман интересней исторического. Лично я придерживаюсь того мнения, что наука не только поставляет технические средства для избавления от нужды на земле, но и создает основу такого образа мыслей, который предполагает терпимость и взаимное понимание. Большие задачи, поставленные перед нами будущим, ответственность, ложащаяся на каждого, кто владеет научно-техническими средствами, требуют привлечь внимание как можно большего числа людей к проблемам, связанным со всем этим. Путь к этому открывает утопическая литература — science fiction — или, как говорят у вас, научно-фантастическая литература. Таким путем следовало бы прежде всего идти писателям, которые располагают основательными знаниями и широким кругозором, включающим в себя понимание хода развития. ПЬЕР БУЛЬ (ФРАНЦИЯ) Ни в коей мере я не могу утверждать, что предпочитаю жанр научной фантастики. Я действительно написал в этом жанре несколько новелл и один роман «Планета обезьян», но это, в общем, составляет лишь незначительную часть моего творчества. Однако мне кажется, что нельзя и пренебрегать этим жанром (впрочем, как и всеми остальными). Я, сказать по правде, не сторонник привилегированных жанров в литературе. Безусловно, научная фантастика таит в себе множество новых возможностей и дает богатую пищу воображению, но лишь при условии, если не рассматривать ее как обособленное, изолированное от общего потока литературы течение, иначе произведения, зачисленные в жанр научной фантастики, постигнет печальная участь полицейских романов и романов о шпионах, они потеряют какую-либо художественную ценность и станут скучными и неинтересными. БЕГОУНЕК (ЧЕХОСЛОВАКИЯ) Жанр научной фантастики избран мною по следующим причинам: 1. К моей научной специальности относится область радиоактивности и дозиметрии ионизирующего излучения. 2. Фантастические романы Жюля Верна были моим самым любимым чтением во время моей юности. Он пробивал дорогу, по которой я потом попытался идти. РАДУ НОР (РУМЫНИЯ) Почему я выбрал научно-фантастический жанр? Вопрос нелегкий. Я работаю в этой области почти два десятилетия, с того возраста, когда человек находится под влиянием романтики далей, необычных открытий, приключений. Мне всегда нравились книги о приключениях — увлечение, которое осталось до сих пор, — и я очень сожалел, что во время моей юности произведения этого жанра можно было найти только у антикваров. Я убежден, что миллионы юношей — моих соотечественников испытывают те же чувства. Бурное развитие науки в нашу эпоху побуждает наделять приключения новым смыслом, искать новых проблем, связанных с покорением земной природы и других миров. Возможно, мне хотелось и в других вселить твердую уверенность в силу человека, в его увлеченность покорением нового, в его духовную красоту. Я всегда был оптимистом. И чем больше я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что решающую роль в выборе научно-фантастического жанра сыграл мой оптимизм, который я стараюсь вселить в сердца читателей. ЙОЗЕФ НЕСВАДБА (ЧЕХОСЛОВАКИЯ) Я сам не раз задавал себе этот вопрос, особенно после того, как читатели заинтересовались моими книгами. По-видимому, жанр научной фантастики потому так притягателен, что в наше время — постоянно ускоряющейся научно-технической революции — он не только развлекает, но и информирует читателя. Кроме того, произведение этого жанра включает в себя приключенческие элементы, что отсутствует у «фотографической» и интроспективной современной прозы. Наконец, обращает на себя внимание сам научный факт, который приобрел общественное, социальное звучание, Мне припоминаются слова Роберта Оппенгеймера о том, что сейчас в мире столько ученых, сколько их не знала вся предшествующая история человечества. Другой вопрос — как обстоит ныне дело с художественным уровнем фантастической литературы, как она достигает цели с помощью своих автономных эстетических средств. Мне кажется, что здесь писатели в большом долгу. Я как-то слышал: плохи те писатели, у которых дело ограничивается фантастическими идеями. И в этом есть доля правды. Мы являемся свидетелями того, как в современном мире растет интерес читателей к книгам, в то же время в области тем и произведений научной фантастики, на мой взгляд, наблюдается спад. Я — врач, и потому склонность к естественным наукам задана самим моим призванием. Поскольку я врач-психиатр, вполне понятен мой особый интерес к психологии. Здесь и причина выбора. В заключение хочу сказать, что великим писателем-фантастом будет тот, кому не только приходят интересные мысли, но кто владеет искусством достойного их воплощения. ИОН ХАБАНА (РУМЫНИЯ) Я полагаю, что всякий выбор, по крайней мере в области художественного творчества, определяется факторами чувства и разума. Обладая такой верой, я считал, что мои творческие данные могут проявиться полностью только в этом жанре. Тем более что научная фантастика не только открывает широкое поле деятельности авторам самых смелых гипотез, она — бесценный инструмент для психологических исследований. Ибо что может быть более увлекательным и более трудным, чем попытка интуитивно угадать чувства и реакции наших более или менее отдаленных потомков или предсказать специфические для будущего конфликты?.. Мой ответ имеет анекдотическую концовку. Спросив себя, что же именно все-таки определило мой переход от интереса и склонности к постоянной деятельности в жанре научной фантастики (до этого я опубликовал несколько книг для детей), я вспомнил одно многозначительное происшествие. |
По ту сторону тайны читать онлайн Александр Быченин (Страница 7)
— Посмотрим, — пожал плечами патрон. — Пристрелять надо будет.
— Обязательно, — с серьезным видом кивнул Тарасов. — Стрельбище в наличии, стреляй — не хочу. Тут главное — к отдаче приспособиться и баллистику уяснить. А вот и ваша «разгрузка». И напоследок — оружие, скажем так, последнего шанса. — С этими словами майор одарил каждого набедренной кобурой и ножом в универсальных ножнах.
Я не глядя нацепил стреляющий подарок на правое бедро, попутно заметив, что каждый ствол укомплектован парой запасных магазинов в специальных кармашках. Любопытствовать пока не стал, а вот Гюнтер не утерпел, и теперь недоуменно вертел перед носом вороненый пистолет весьма архаичного дизайна.
— Классика — Кольт-М1911А1, под парабеллумовский девятимиллиметровый патрон, — в очередной раз пояснил Тарасов. — Пятнадцать в магазине, но рукоять такая же удобная, как и в оригинальном сорок пятом калибре. Знали бы вы, коллеги, чего мне стоило все это раздобыть! И сколько это стоило.
Судя по усмешке Пьера, майор не соврал — сумма и впрямь получилась кругленькая. И это не считая нервов, которые, как известно, не восстанавливаются.
— Пулемета нет ни одного, на это моих связей уже не хватило, — между тем сокрушенно вздохнул Тарасов. — Гранат тоже, но, надеюсь, они и не понадобятся. Ножики не бросаем, пригодятся, хотя бы в качестве хозяйственных инструментов.
Ага, тут я с ним был полностью согласен, потому безропотно пристроил ножны на груди так, чтобы рукоять ножа смотрела под углом вниз и было удобно выхватывать правой рукой прямым хватом.
— Патронов в избытке, в «бобиках» еще по паре цинков, так что можно не жалеть. Сейчас давайте пристреляемся, а потом еще раз вкратце пройдемся по основным этапам операции.
Возражать Тарасову никто не стал: пристрелка — дело полезное, соваться в рейд с ненадежным оружием — откровенное раздолбайство, граничащее с безумием.
Вопреки ожиданиям, автомат мне понравился. Брыкался не особенно сильно, а после того, как я перевел регулятор огня в положение отсечки по три выстрела, даже начал попадать в мишень метрах в пятидесяти от нашей позиции. Впрочем, тут помог коллиматор, с открытых, как совершенно справедливо заметил Тарасов, я бы показал куда более скромные результаты. Тело, кстати, порядочно забытые навыки вспомнило быстро. С «кольтом» дело пошло чуть хуже, ну да ладно — все равно в случае чего из пистолета чуть ли не в упор стрелять придется. И я не уверен, что выхвачу его, а не нож, — рефлексы штука упрямая, а «холодняком» я пользовался куда как чаще, пусть и на тренировках.
Майор с Гюнтером в этом вопросе оставили меня далеко позади, но Тарасов не расстроился.
— Будешь, Паша, вести огонь на подавление. Хотя я очень надеюсь, что обойдется вообще без стрельбы. Это был бы самый идеальный вариант.
Дражайший шеф с винтовкой разобрался быстрее всех — ему хватило буквально пяти выстрелов, затем он с довольным видом принялся наблюдать за нами.
Восстановив запас снаряженных магазинов, для чего пришлось вскрыть один из припасенных патронных цинков, расселись за специально оборудованными столиками для чистки оружия и по настоянию Тарасова немедленно использовали их по назначению, благо все необходимые приспособления нашлись здесь же. Параллельно майор продолжил вводить нас в курс дела:
— Итак, коллеги, нам предстоит преодолеть около семисот километров по бездорожью. Задача весьма нетривиальная, уж поверьте моему опыту. Расчетное время прибытия на место — от полутора до двух суток. Маршрут я примерно прикинул, спутниковые карты есть, да и кое-кто из «мародеров» сюда наведывался относительно недавно. Плюс с воздуха я местность достаточно хорошо изучил. Думаю, особых проблем удастся избежать, намертво не застрянем, но ожидается форсирование как минимум двух водных преград. Плюс три довольно значительных лесных массива, которые мы попробуем обогнуть и проскочить на стыке двух из них. Дальше пойдет степь. В общем и целом трудности вполне преодолимые. Да, Гюнтер?
Плюс с воздуха я местность достаточно хорошо изучил. Думаю, особых проблем удастся избежать, намертво не застрянем, но ожидается форсирование как минимум двух водных преград. Плюс три довольно значительных лесных массива, которые мы попробуем обогнуть и проскочить на стыке двух из них. Дальше пойдет степь. В общем и целом трудности вполне преодолимые. Да, Гюнтер?
— А почему мы не могли просто взять глайдер?
— Во-первых, из соображений конспирации. Во-вторых, их здесь нет. В частном владении, я имею в виду. У военных есть, но военных же образцов, то есть вооруженные и бронированные. Как думаешь, друг мой, что бы ответил любой нормальный военный на просьбу каких-то гражданских подозрительной наружности?
— Э-э-э…
— Можешь не отвечать, вопрос был риторический. Но ты совершенно прав, цензурных слов у него бы не нашлось. Предвосхищая следующий аргумент — я отнюдь не всесилен, мои возможности исчерпались парой «бобиков» и снарягой. Плюс оружие. И то лишь потому, что удалось подключить семейство Лосевых, у которых это все было припасено для нужд контрразведчиков из Чернореченска, ну и после известных событий — для федеральной агентуры. Кстати, чтоб вы знали, — основные силы федералов на планете сосредоточены в районе Базы-7, это примерно на полпути между Чернореченском и Разгуляем, но от нас довольно далеко. Там сейчас полноценный военный космопорт, сильный гарнизон и прорва техники. И никто из тамошних служивых про нас не знает. В идеале так должно оставаться и дальше.
Кстати, чтоб вы знали, — основные силы федералов на планете сосредоточены в районе Базы-7, это примерно на полпути между Чернореченском и Разгуляем, но от нас довольно далеко. Там сейчас полноценный военный космопорт, сильный гарнизон и прорва техники. И никто из тамошних служивых про нас не знает. В идеале так должно оставаться и дальше.
— «Бобики», скорее всего, придется бросить, — после небольшой паузы возобновил инструктаж Тарасов. — Жалко, но ничего не поделать. Денисова с Галькой в Порт-Владимир тащить бессмысленно, их тайно через «таможенников» не провести. Потому планом предусматривается эвакуация на орбиту силами команды фрегата. Пьер, ваши люди готовы?
— Ждут отмашки. Контрольное время прибытия по сигналу — не более двадцати минут.
— С этим понятно… Что, Гюнтер?
— Почему мы не могли сразу на космокатере на планету высадиться? Очень быстро бы провернули дельце, опыт есть…
— Гюнтер, ты меня периодически удивляешь, — счел нужным вмешаться Пьер. — Еще раз повторяю: ключевое слово — конспирация. Как думаешь, сколько времени военным понадобится, чтобы вычислить, откуда пришел челнок и, самое главное, куда ушел? Я тоже думаю, что немного. А так мы доберемся до места, дадим пеленг, и ребята его выбросят в режиме «призрака». В конце концов, контрабандисты мы или где? Нам останется лишь преспокойно загрузиться на борт и затаиться на орбите. Сингонский вариант, чтоб тебе понятнее было.
Как думаешь, сколько времени военным понадобится, чтобы вычислить, откуда пришел челнок и, самое главное, куда ушел? Я тоже думаю, что немного. А так мы доберемся до места, дадим пеленг, и ребята его выбросят в режиме «призрака». В конце концов, контрабандисты мы или где? Нам останется лишь преспокойно загрузиться на борт и затаиться на орбите. Сингонский вариант, чтоб тебе понятнее было.
Ага, любопытные нюансы всплывают. Про режим «призрака» я уже слышал краем уха — одна из специфических уловок лихих парней, предпочитающих игнорировать государственные границы. В принципе суть Пьер уже изложил — высадиться незаметно для систем наблюдения можно лишь по пеленгу, этаким микропрыжком через так называемый «предбанник» гиперпространства. Одно из проявлений телепортации, почти не нашедшее практического применения, в том числе и из-за дороговизны. Разве что десантура периодически использует в качестве тактического приема: выбрасывается разведка, незаметно пробирается на объект, и — вуаля! — через считаные минуты толпа серьезных парней в броне и с мощными пушками, буквально как снег на голову. И никакая ПВО не поможет. Понятно, что средства высадки требуются соответствующим образом оснащенные, обычные катера не подходят. Вот только в нашем случае имеется ма-а-аленькая проблемка.
И никакая ПВО не поможет. Понятно, что средства высадки требуются соответствующим образом оснащенные, обычные катера не подходят. Вот только в нашем случае имеется ма-а-аленькая проблемка.
— Шеф, что-то я у вас передатчика не наблюдаю, — опередил меня Гюнтер.
— На месте разберемся, — не пожелал вдаваться в подробности Пьер.
— Денисов сидит на станции мониторинга среды, мощностей там выше крыши, — снизошел Тарасов. — Главное, волну знать. И условный сигнал.
— И вы, шеф, думаете, что на высокой орбите военные нас не засекут?
— Засекут, но будут смотреть в другую сторону, — снова пояснил майор. — Главное, нам особо не буйствовать, чтобы ребята с Базы-7 не всполошились. А орбитальная группировка в курсе.
Н-да… «Продуманные» у нас руководители. Видимо, мне все-таки не удалось сохранить на морде бесстрастное выражение, потому что Тарасов, наткнувшись на меня рассеянным взглядом, незамедлительно вскинулся:
— Что еще?
— Э-э-э… коллеги… Я, конечно, дилетант, но… как местные военные воспримут факт пропажи без вести аж четырех туристов? Это не говоря уже о паре местных сотрудников. Подумают, что нас хищники сожрали? Или мы обратно тем же путем — на машинах? Но Тарасов недвусмысленно выразился — тачки бросаем. Пешком пойдем? Вряд ли. Остается только один вариант…
Подумают, что нас хищники сожрали? Или мы обратно тем же путем — на машинах? Но Тарасов недвусмысленно выразился — тачки бросаем. Пешком пойдем? Вряд ли. Остается только один вариант…
— Умный ты, Паша, но все равно дурак! — с облегчением рассмеялся майор. — Вот как раз это не проблема. Мы у «таможенников» по документации уже проходим как высадившиеся на планету. В отличие от того же Денисова, которого надо умыкнуть незаметно. Так что подделать запись о нашем возвращении труда не составит. На это моих связей хватит с избытком. А чтобы сильно не палиться, Виталик с Веней домой вернутся только через четверо суток и всем заинтересованным будут отвечать, что туристов они в город привезли, а уж куда они потом делись — то им неведомо. А пропажа персонала с уединенной станции мониторинга — дело привычное. К тому же наши объекты — сотрудники гражданской службы, военные к ним никаким боком. Еще вопросы?
Я мотнул головой. Гюнтер тоже больше не нашел к чему придраться. Нормальный, в сущности, план. Не без авантюры, но кто сейчас без греха?..
Не без авантюры, но кто сейчас без греха?..
— Патрон, стесняюсь спросить — а как же вы собирались отсюда Тарасова вытащить без его помощи?
— По-дилетантски, Паша, по-дилетантски, — вздохнул Пьер, но развивать тему не стал.
— Организационные вопросы еще будут? — выгнул бровь майор, переждав наш с шефом обмен любезностями. — Нет? Тогда еще один момент. Угрозы. Потенциально ожидаются со стороны диких животных, но их здесь, особенно хищных, не очень много. Куда опаснее люди из числа аборигенов. Не в последнюю очередь экспансия Чернореченского княжества и сателлитов ограничена именно из-за наличия агрессивно настроенных коренных жителей. И федералы планету активно осваивать не торопятся из-за них же. Вы наверняка в курсе.
Ага. Чуть ли не в каждой второй статье в Сети, посвященной проблематике Ахерона, упоминалось, что коренное население планеты — суть третья ветвь человечества, измененная Первыми, наряду с землянами и легорийцами. И столь драконовские меры по ограничению доступа в Систему в свете этого факта абсолютно оправданны.
— Я постарался подобрать маршрут подальше от их кочевых троп, но случайности никто не отменял. Поэтому при встрече с аборигенами придется брать ноги в руки. Чем больше километров между нами, тем лучше. Догнать наверняка попытаются, уничтожение чужаков у них прописано чуть ли не на генном уровне, но не догонят, если тормозить не будем. При нужде будем двигаться ночью. В перестрелки лучше не вступать вообще. Огнестрел у них есть, хоть и мало. Так что прошу отнестись к моим словам со всей серьезностью.
Однако пренебрегать опасностью никто и не пытался — Пьер с Гюнтером слишком опытны для этого, а я тем более особой лихостью не отличаюсь. И вообще, нормальные герои всегда идут в обход.
— Тогда осталось последнее. У кого есть опыт вождения наземной техники?
Руки подняли Пьер с Гюнтером, что меня ничуть не удивило. Тарасова, впрочем, тоже.
— Все понятно. Сейчас потренируемся, благо время еще есть. Самое сложное в наших «бобиках» — включить скорость и тронуться с места. Не буду рассказывать, что такое муфта сцепления, главное, запоминайте последовательность. — Тарасов легко запрыгнул в ближайший внедорожник и продолжил объяснения: — Прежде чем заводить движок, удостоверяемся, что коробка на нейтралке. Выжимаем сцепление…
Не буду рассказывать, что такое муфта сцепления, главное, запоминайте последовательность. — Тарасов легко запрыгнул в ближайший внедорожник и продолжил объяснения: — Прежде чем заводить движок, удостоверяемся, что коробка на нейтралке. Выжимаем сцепление…
В общем, процесс несколько затянулся. Самым толковым водителем, помимо собственно майора, неожиданно оказался Гюнтер — он сумел сделать круг по двору, заглохнув всего дважды. Второй прогон и вовсе обошелся без происшествий — главный Пьеров боевик на глазах осваивал сложную архаичную технику. Дражайший шеф тоже довольно быстро подстроился, а вот я ничего сверхъестественного не показал. Впрочем, Тарасов терять время не пожелал — посулился натаскать меня в пути, на более-менее ровных участках. На том и порешили. Я, соответственно, оказался в паре с майором, а патрон — Гюнтером, что устроило абсолютно всех. До возвращения Виталика с напарником оставалось не более получаса, поэтому задерживаться не стали — Тарасов прыгнул за руль, я устроился рядом, и наш агрегат с урчанием выполз за ворота. Второй «бобик» пристроился в отдалении, дабы экипажу не пришлось глотать пыль, поднятую покрышками головной машины.
Второй «бобик» пристроился в отдалении, дабы экипажу не пришлось глотать пыль, поднятую покрышками головной машины.
Система Риггос-2, планета Ахерон,
11 августа 2541 года, день
Передвижение на старинном «бобике» сначала по не самой качественной грунтовке, а потом и откровенно по азимуту оказалось делом нудным и донельзя скучным. В отличие от того же Виталика Тарасов вел аккуратно, памятуя, что в степи станций техобслуживания днем с огнем не сыскать, и темп задал соответствующий. Одно плохо — дремать все равно не получалось, так как трясло чувствительно, и приходилось крепко держаться то за срез двери, то за приборную панель. Ладно хоть ремни безопасности предусматривались конструкцией, что несколько нивелировало риск вылететь из салона — оба джипа были без верха. Однако возможность вписаться головой в дугу безопасности существовала.
Из лесного массива, опоясывавшего Порт-Владимир, выехали часа через два, порядочно попетляв по просекам. Я бы сто процентов заблудился. Впрочем, Тарасов тоже, если бы не пользовался примитивным навигатором, видимо выцыганенным у того же Виталика. Ориентирование на местности в отсутствие высокотехнологичной машинерии оказалось делом хлопотным, поэтому майор по большей части молчал, за что я ему был только благодарен. Зато когда вырвались на простор, он незамедлительно поменялся со мной местами и принялся выполнять обещание насчет «натаскаю». Здесь уже не обошлось без его фирменных шуточек, но я стоически терпел ради общего дела. Своеобразная пытка длилась около двух часов, пока мы не пересекли обширное поле, умудрившись нигде не застрять, и не оказались в лесостепной зоне. Тарасов не стал испытывать мое сомнительное водительское мастерство и пересел за руль.
Я бы сто процентов заблудился. Впрочем, Тарасов тоже, если бы не пользовался примитивным навигатором, видимо выцыганенным у того же Виталика. Ориентирование на местности в отсутствие высокотехнологичной машинерии оказалось делом хлопотным, поэтому майор по большей части молчал, за что я ему был только благодарен. Зато когда вырвались на простор, он незамедлительно поменялся со мной местами и принялся выполнять обещание насчет «натаскаю». Здесь уже не обошлось без его фирменных шуточек, но я стоически терпел ради общего дела. Своеобразная пытка длилась около двух часов, пока мы не пересекли обширное поле, умудрившись нигде не застрять, и не оказались в лесостепной зоне. Тарасов не стал испытывать мое сомнительное водительское мастерство и пересел за руль.
На «оправиться» останавливались каждый час, и здесь пленочная «нулевка» показала себя не с самой лучшей стороны. По крайней мере, я довольно долго соображал, как добраться до… э-э-э… хозяйства. Весь мой предыдущий опыт эксплуатации современного защитного снаряжения подсказывал, что оное снаряжение должно было утилизировать, скажем так, отходы жизнедеятельности. Но как это осуществить в настолько примитивном комплекте, я не понимал. Выручил Гюнтер, без обиняков показавший, как «расстегивается» самозарастающий шов-гульфик. Попутно он же пояснил, что ежели приспичит «по большому», то все, беда.
Но как это осуществить в настолько примитивном комплекте, я не понимал. Выручил Гюнтер, без обиняков показавший, как «расстегивается» самозарастающий шов-гульфик. Попутно он же пояснил, что ежели приспичит «по большому», то все, беда.
С питанием дело обстояло проще — в числе прочего снаряжения Виталик подогнал несколько упаковок пищевых концентратов федерального производства. Один употребленный по назначению брикетик величиной с обыкновенный бульонный кубик (да и вкусом от оного почти неотличимый) позволял продержаться мужику среднего сложения, не испытывая голода, минимум часов пять. Правда, и удовольствия от такой «еды» никакого. Зато побочный эффект в виде отсутствия необходимости ходить до ветра в ближайшие кустики откровенно радовал. Впрочем, Тарасов и тут не упустил возможность обгадить малину, заявив, что более пяти суток подобной диеты — прямой путь в больничку на восстановительные процедуры, неотъемлемой частью которых являются промывание желудка и клизмы дважды в день. Это не говоря о лошадиных дозах витаминов и специальном питании, призванном восстановить микрофлору кишечника. Для профилактики майор порекомендовал чаще пить, что мы и делали, благо воду экономить не приходилось — в машинах имелся изрядный запас, да и пополнить его труда не составляло. На резонный вопрос Гюнтера, а не пронесет ли с сырой-то водицы, Тарасов заверил, что после концентратов нам в этом плане ничего не грозит. На том разговор и заглох, но я укрепился в мысли, что затягивать текущее приключение явно не стоит.
Для профилактики майор порекомендовал чаще пить, что мы и делали, благо воду экономить не приходилось — в машинах имелся изрядный запас, да и пополнить его труда не составляло. На резонный вопрос Гюнтера, а не пронесет ли с сырой-то водицы, Тарасов заверил, что после концентратов нам в этом плане ничего не грозит. На том разговор и заглох, но я укрепился в мысли, что затягивать текущее приключение явно не стоит.
Лесостепную полосу преодолевали часа три, практически до самой темноты, после чего еще около часа плелись вдоль опушки очередного массивчика, пока Тарасов не присмотрел подходящее, по его мнению, место для ночевки. Таковым оказалась укромная полянка у подножия довольно мощной известняковой скалы (как объяснил майор, явление для данной местности совершенно обычное), рядом с которой в качестве дополнительного бонуса обнаружился родник с чистейшей водой. Правда, неприятным сюрпризом оказалось старое кострище и явные следы вырубки на кустах, на которые наш главный спец по выживанию внимания не обратил, мимоходом пояснив всем заинтересованным лицам:
— Это стоянка кочевников. Степняков, не лесных, те обычно мелкими группками на охоту ходят и в поле не суются. Неуютно им там. Впрочем, как и степнякам в лесу. Так что можно не опасаться. Кострище старое, племена сейчас откочевали в глубь степи, да и наведывался сюда, скажем так, пограничный патруль. Человека три, не больше.
Степняков, не лесных, те обычно мелкими группками на охоту ходят и в поле не суются. Неуютно им там. Впрочем, как и степнякам в лесу. Так что можно не опасаться. Кострище старое, племена сейчас откочевали в глубь степи, да и наведывался сюда, скажем так, пограничный патруль. Человека три, не больше.
И усмехнулся каким-то своим воспоминаниям.
Лагерь разбили быстро, просто-напросто поставив джипы буквой Г и отгородив тем самым небольшой пятачок с кострищем посередине. С третьей стороны стоянку защищала скала, и лишь одно направление осталось неприкрытым. С костром тоже не заморачивались — Тарасов извлек из багажника небольшой чурбачок с глухим отверстием в торце, сунул в него таблетку сухого горючего и запалил настоящей деревянной спичкой, чем в очередной раз поразил меня до глубины души. Я все никак не мог привыкнуть к здешним реалиям, и в этом вопросе недалеко ушел от дражайшего шефа и Гюнтера. А вот майору хоть бы хны — он практически местный.
Организовав, так сказать, очаг, Тарасов одарил каждого спальным мешком (оказывается, Виталик и об этом позаботился, а мне такая мелочь даже в голову не пришла!), расстелил свой и с максимально возможным удобством устроился у «костерка». Автомат, правда, далеко не убрал, пристроил на коленях. Мы с Пьером последовали его примеру, а Гюнтер так и остался подпирать крыло джипа, периодически подозрительно всматриваясь во тьму. Что он там пытался расмотреть, ума не приложу.
Автомат, правда, далеко не убрал, пристроил на коленях. Мы с Пьером последовали его примеру, а Гюнтер так и остался подпирать крыло джипа, периодически подозрительно всматриваясь во тьму. Что он там пытался расмотреть, ума не приложу.
— Итак, коллеги, подведем промежуточные итоги! — объявил Тарасов, когда мы с патроном наконец устроились елико возможно комфортно. — Если верить навигатору, сегодня мы сделали около двухсот километров, что вполне удовлетворительно, с учетом неполного дня марша. Если завтра удастся выдержать такой же темп, пройдем почти четыреста, и останется лишь небольшой отрезок в сотню с копейками. Но это в идеале. Выдвинуться нужно будет с рассветом, потому предлагаю не засиживаться. Ужином тоже заморачиваться не будем, дабы не нарушать диету. Могу предложить горячий чай.
Возражений не последовало, и майор, раз уж сам вызвался, озаботился заваркой. Занятный чурбачок в этом вопросе проявил себя с наилучшей стороны — Тарасов одну за другой довел до кипения четыре полулитровые фляжки воды, сыпанул в них гранулированного чая и сахара и одарил всех страждущих, себе забрав последнюю. Горячее пришлось очень кстати, несколько примирив меня с отсутствием нормального питания.
Горячее пришлось очень кстати, несколько примирив меня с отсутствием нормального питания.
— Дежурить будем по очереди, — через некоторое время оповестил присутствующих майор. — Первым Гюнтер, ему с утра за руль, потом Паша. Пьер, вам третья смена, а мне «собачья вахта», ибо я привычный. Вопросы, возражения?
Жак-Филипп Гюнтер
Партнер
Скачать«Жак-Филипп Гюнтер особенно хорошо знаком с законодательством о конкуренции и органами по вопросам конкуренции, в частности с Комиссией, что позволяет ему предлагать новаторские решения, которые могут открывать дела с высокими ставками».
The Legal 500 EMEA 2022
Зал славы – Конкуренция и распространение в ЕС
The Legal 500 EMEA 2022
Группа 1 – Конкуренция/Европейское право
Chambers Europe 2022

 , Азимов Айзек, Бегоунек Франтишек, Андерсон Пол Уильям, Крупкат Гюнтер, Фивег Гейнц, Лейбер Фриц Ройтер, Олдисс Брайан Уилсон, Борунь Кшиштоф, Вейсс Ян, Брэдбери Рэй Дуглас, Стругацкие Аркадий и Борис, Пол Фредерик, Нор Раду — Страница 6
, Азимов Айзек, Бегоунек Франтишек, Андерсон Пол Уильям, Крупкат Гюнтер, Фивег Гейнц, Лейбер Фриц Ройтер, Олдисс Брайан Уилсон, Борунь Кшиштоф, Вейсс Ян, Брэдбери Рэй Дуглас, Стругацкие Аркадий и Борис, Пол Фредерик, Нор Раду — Страница 6

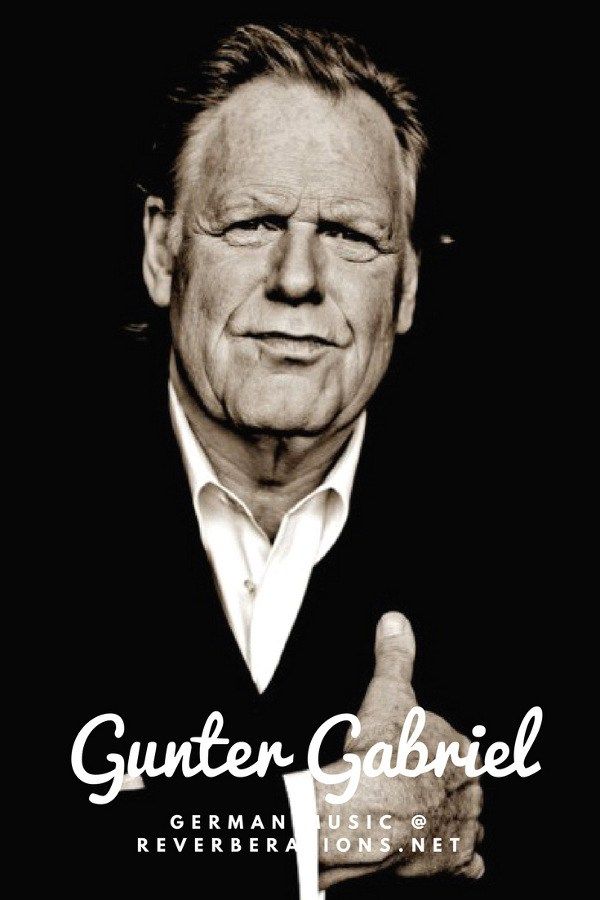

 Много лет назад мне предложили написать для конкурса мой первый научно-фантастический рассказ. Поскольку это было в эпоху увлечения техницизмом, я написал об аппарате, который, улавливая инфразвуки, предвещал грозу задолго до того, как она разражалась. Через некоторое время я прочитал в газете, что специалисты тоже думают о подобном аппарате. И хотя я немедленно и бесповоротно отказался от нелепой идеи конкурировать с изобретателями, этот мой «вклад» в науку скорее всего и послужил решающим толчком к тому, что я сейчас считаю основным смыслом своей жизни.
Много лет назад мне предложили написать для конкурса мой первый научно-фантастический рассказ. Поскольку это было в эпоху увлечения техницизмом, я написал об аппарате, который, улавливая инфразвуки, предвещал грозу задолго до того, как она разражалась. Через некоторое время я прочитал в газете, что специалисты тоже думают о подобном аппарате. И хотя я немедленно и бесповоротно отказался от нелепой идеи конкурировать с изобретателями, этот мой «вклад» в науку скорее всего и послужил решающим толчком к тому, что я сейчас считаю основным смыслом своей жизни.
 Он также имеет большой опыт работы со сложными европейскими и национальными заявками на слияния в фазах I и II и государственной помощью.
Он также имеет большой опыт работы со сложными европейскими и национальными заявками на слияния в фазах I и II и государственной помощью. Признание
Признание Наша работа
Наша работа
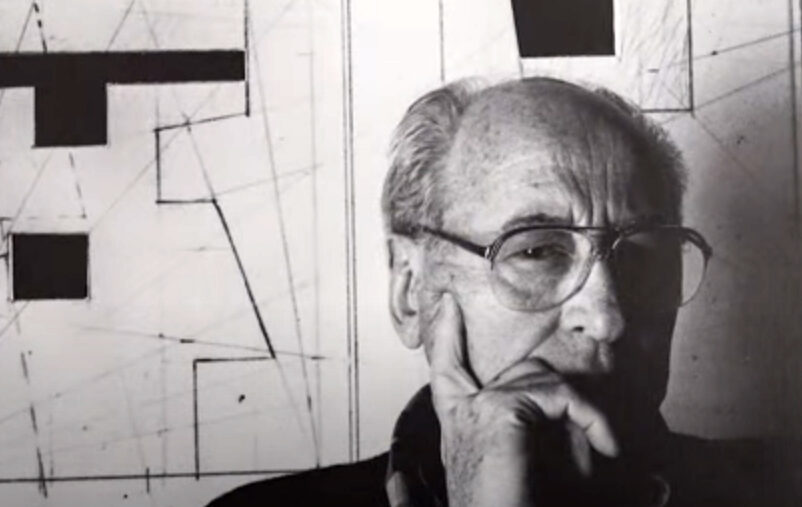
 net
net net
net net
net net
net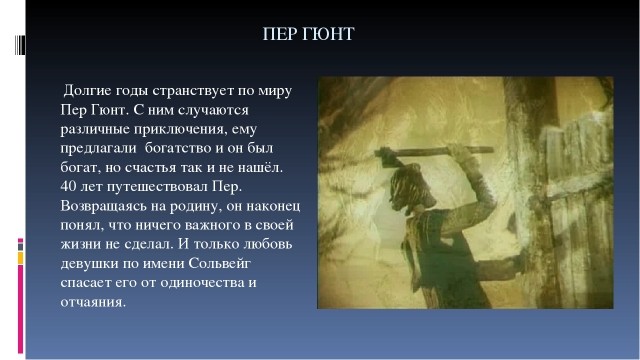 net
net cc
cc .. Поздравляем, вы нашли своих людей.
.. Поздравляем, вы нашли своих людей. Rachel Maddow Presents: Ultra — это почти забытая правдивая история о добром, старомодном американском экстремизме, который подпитывается близостью к власти. Когда экстремистские выборные чиновники пойманы за заговором против Америки с жестокими ультраправыми, это история о том, на что они пойдут… чтобы замести следы. Подпишитесь сейчас и присоединяйтесь к Рэйчел Мэддоу в первых двух эпизодах 10 октября.
Rachel Maddow Presents: Ultra — это почти забытая правдивая история о добром, старомодном американском экстремизме, который подпитывается близостью к власти. Когда экстремистские выборные чиновники пойманы за заговором против Америки с жестокими ультраправыми, это история о том, на что они пойдут… чтобы замести следы. Подпишитесь сейчас и присоединяйтесь к Рэйчел Мэддоу в первых двух эпизодах 10 октября. «Елизавета Первая» производится Imperative Entertainment совместно с House of Taylor и Kitty Purry Productions. Исполнительные продюсеры — Кэти Перри, Джейсон Хох и Стефани Кофф. О Елизавете Первой рассказывает Кэти Перри, продюсирует Джейсон Хох и пишет Стефани Кофф. Звукорежиссура и монтаж звука — Шейн Фриман и Джейсон Хох. Попечителями House of Taylor являются Куинн Тиви, Тим Мендельсон и Барбара Берковиц, а консультантом по стратегии бренда является Эрин Докинз. Маршалл Эсковиц и Кэри Шварц из Sunset Blvd выступают в качестве партнеров-продюсеров и представляют House of Taylor в вопросах лицензирования и контента Элизабет Тейлор. Яша Клебе написал и сочинил оригинальную музыку. Дополнительная музыка предоставлена Рисом Тиви. Фото: Элизабет Тейлор, ©BertSternTrust, фотограф Берт Стерн. Обложка и дизайн Джины Салливан. Если вы хотите поддержать Фонд Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом, посетите http://elizabethtayoraidsfoundation.org. И, если вы хотите глубже погрузиться в мир Элизабет Тейлор, следите за первой официальной биографией о ее жизни.
«Елизавета Первая» производится Imperative Entertainment совместно с House of Taylor и Kitty Purry Productions. Исполнительные продюсеры — Кэти Перри, Джейсон Хох и Стефани Кофф. О Елизавете Первой рассказывает Кэти Перри, продюсирует Джейсон Хох и пишет Стефани Кофф. Звукорежиссура и монтаж звука — Шейн Фриман и Джейсон Хох. Попечителями House of Taylor являются Куинн Тиви, Тим Мендельсон и Барбара Берковиц, а консультантом по стратегии бренда является Эрин Докинз. Маршалл Эсковиц и Кэри Шварц из Sunset Blvd выступают в качестве партнеров-продюсеров и представляют House of Taylor в вопросах лицензирования и контента Элизабет Тейлор. Яша Клебе написал и сочинил оригинальную музыку. Дополнительная музыка предоставлена Рисом Тиви. Фото: Элизабет Тейлор, ©BertSternTrust, фотограф Берт Стерн. Обложка и дизайн Джины Салливан. Если вы хотите поддержать Фонд Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом, посетите http://elizabethtayoraidsfoundation.org. И, если вы хотите глубже погрузиться в мир Элизабет Тейлор, следите за первой официальной биографией о ее жизни.