Почему США так и не выиграли Корейскую войну
С одной стороны, коммунистический Север поддерживали Китай и Советский Союз. «Опорой» Юга стали Соединенные Штаты и войска ООН. США ставили задачу объединить страну под властью Юга и получить в свое распоряжение крупный плацдарм на Дальнем Востоке. Но, потеряв, по разным данным, от 136 до 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, потратив 83 миллиарда долларов, США так и не смогли выполнить эту задачу. Почему? «РГ» разбирается в причинах.
1. Неожиданность нападения
В советские годы «официальная» историческая наука придерживалась позиции, что войну развязало правительство Ли Сын Мана, спровоцированное «американскими империалистами». Газета «Правда» 25 июня 1950 года писала, что армия Южной Кореи численностью до 10 дивизий «совершила нападение» на КНДР по всей линии 38-й параллели и углубилась на ее территорию от 2 до 3 км. Однако части Корейской народной армии успешно отбили атаки противника и перешли в широкое контрнаступление.
Современные исследователи говорят о том, что к войне готовились обе стороны. «Считать, что Пхеньян и Сеул были просто заложниками в большой игре великих держав было бы неправильно. К войне на полуострове тщательно готовились обе корейские стороны. И, готовясь к этой войне, они никак не стремились оказаться в роли пешек, обслуживающих глобальные амбиции Москвы и Вашингтона. В основе их политики лежали, прежде всего, властные и националистические устремления», — пишет ректор МГИМО, специалист по Корее Анатолий Торкунов в книге «Загадочная война».
Как считают историки сегодня, первыми нарушили границу все-таки северяне. И хотя в течение 1948 — 1949 года вдоль 38-й параллели, по которой пролегла граница между Севером и Югом, все время происходили вооруженные стычки, нападение стало неожиданностью и для Южной Кореи, и для США, и для всего западного мира. За неделю до нападения, госсекретарь США Дин Ачесон в докладе Конгрессу заявил, что война маловероятна.
«Мы так долго жили на краю вулкана, что просто привыкли к такой жизни.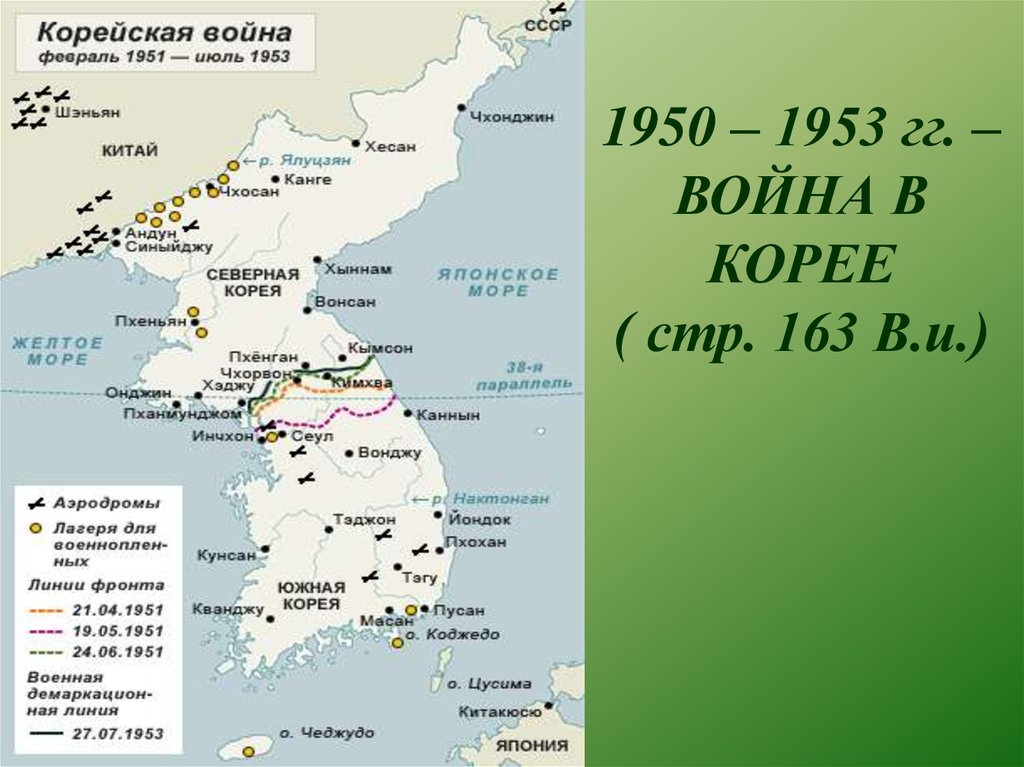 Мы знали, что когда-нибудь произойдет катастрофа, — писал позднее в своих воспоминаниях первый секретарь посольства США в Сеуле Гарольд Джойс Нобл, — но проходил день за днем, месяц за месяцем, год за годом, а взрыва так и не было, и мы уже не могли поверить в то, что на следующий день все будет по-другому».
Мы знали, что когда-нибудь произойдет катастрофа, — писал позднее в своих воспоминаниях первый секретарь посольства США в Сеуле Гарольд Джойс Нобл, — но проходил день за днем, месяц за месяцем, год за годом, а взрыва так и не было, и мы уже не могли поверить в то, что на следующий день все будет по-другому».
Американский историк Стьюк в своей книге «Корейская война» подчеркивает и то, что большинства южнокорейских военачальников не было на месте. «Ряд военных руководителей страны был за границей — в Японии или в США, — пишет он. — Поскольку нападение произошло в выходные, часть офицеров из воинских подразделений, расположенных вдоль границы, отсутствовала на боевых постах — они, как и многие американские советники, приписанные к этим соединениям, находились в краткосрочном отпуске. Постоянный руководитель группы американских советников в Корее незадолго до нападения уехал за новым назначением в Соединенные Штаты. Временно исполняющий его обязанности офицер в этот момент находился в Токио, где прощался с семьей, которая возвращалась домой».
Даже президенту Трумэну о начале войны сообщили лишь через несколько часов после ее начала, потому что он отдыхал с семьей на родине в Миссури, а госсекретарь Ачесон находился в Мэриленде.
Эффект неожиданности позволил Корейской народной армии быстро продвинуться на Юг и уже через несколько дней, 28 июня, захватить столицу — Сеул.
2. Нехватка американского контингента
К началу Корейской войны в Штатах практически завершилась демобилизация. В отличие от СССР, США после Второй Мировой войны одними из первых распустили свою армию, буквально в течение года. Американцы надеялись, что монополия на ядерное оружие будет служить для них надежной защитой. К мирной жизни в Штатах вернулись 12 миллионов солдат и офицеров. Это привело к тому, что американские войска в Корее были недоукомплектованы. Дивизии, находившиеся на Корейском полуострове, были заполнены лишь на 40 процентов. Исключение составлял только Корпус морской пехоты.
К тому же, командовавший американскими войсками на Дальнем Востоке генерал Дуглас Макартур сосредоточил большую часть своих на территории оккупированной Японии. К началу войны США уже вывели свои войска с Корейского полуострова, находившиеся там после разгрома Японии.
К началу войны США уже вывели свои войска с Корейского полуострова, находившиеся там после разгрома Японии.
Уильям Стьюк полагает, что вопрос — сколько войск и техниники необходимо, чтобы отстоять Корею — для администрации Трумэна был одним из ключевых. Вплоть до того, что часть американских генералов вообще опасались, что им не хватит сил для проведения операции в столь отдаленном районе и вообще сомневались, нужно ли вовлекать американские войска в боевые действия. Этой же точки зрения придерживался и генерал Макартур. В начале войны американцы отправили в Корею лишь две дивизии, но затем нарастили группировку.
Уже первые бои показали, что само по себе появление американских войск не изменит ход войны. «Огневая мощь американских войск оказалась недостаточной, чтобы противодействовать танкам советского производства, а северокорейских солдат не испугало появление нового противника, — пишет Стьюк. — Материально-техническое обеспечение и боевой дух американских солдат оставляли желать лучшего.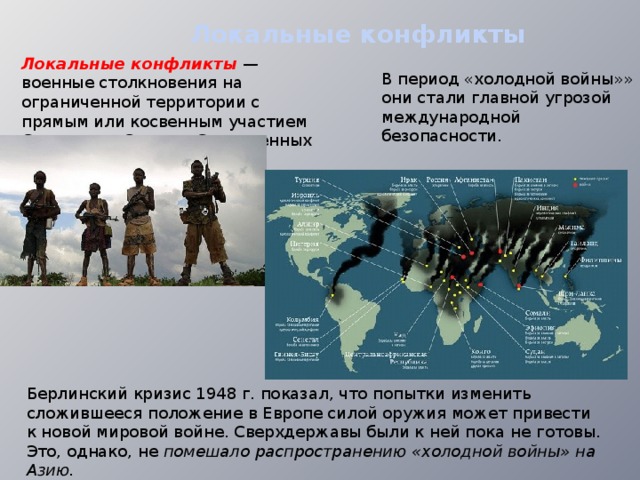 К тому же у них, как правило, не было никакого опыта ведения боевых действий. За годы службы в оккупационных силах США в Японии они так и не получили навыков, необходимых для выполнения боевых задач, стоявших теперь перед ними».
К тому же у них, как правило, не было никакого опыта ведения боевых действий. За годы службы в оккупационных силах США в Японии они так и не получили навыков, необходимых для выполнения боевых задач, стоявших теперь перед ними».
3. Партизанское движение
Надо отдать американцам должное — они быстро провели переоценку сил в регионе и нарастили группировку «объединенных войск», высадив десант и захватив портовый город Инчхон. К осени 1950 года соотношение сил поменялось. 28 сентября американцы освободили Сеул, а к началу октября вышли к 38-й параллели. Однако, оказавшись на территории северян, «войска ООН» столкнулись не только с сопротивлением регулярных частей Корейской народной армии, но и партизан.
«Драматические события первых месяцев войны привели к резкой активизации партизанского движения. В ходе контрнаступления американских и южнокорейских войск осенью 1950 года значительная часть северокорейской армии оказалась в окружении и перешла к партизанским действиям, — пишет российский востоко- и кореевед Андрей Ланьков. — В начале 1951 года, когда численность партизан достигла своего пика, в отрядах насчитывалось около 15 тысяч бойцов, в основном солдат-окруженцев».
— В начале 1951 года, когда численность партизан достигла своего пика, в отрядах насчитывалось около 15 тысяч бойцов, в основном солдат-окруженцев».
«В эти критические для КНДР дни Ким Ир Сен говорил, что он не пойдет на капитуляцию, уйдет в горы, чтобы вновь вести партизанскую войну против интервенции. Реальная угроза нарастания партизанского сопротивления на Севере вынудила коалицию внести существенные изменения в свою наступательную стратегию и тактику», — говорится в коллективном труде Владимира Ли, Валерия Денисова и Анатолия Торкунова «Корейский полуостров: метаморфозы военной истории».
В конце октября 1950 года начальник штаба 10-го корпуса ВС США подполковник Куинн представил Пентагону доклад с предложениями, как бороться с партизанами. Автор доклада поясняет, что северокорейские партизаны действуют в рамках трех боевых структур: регулярные отряды; полувоенизированная милиция — то есть обычные крестьяне, которые днем трудятся на полях, а ночью совершают вылазки; плохо вооруженные народоармейцы из числа детей и женщин, которые, тем не менее, поставляют важные сведения о передвижении и численности противника.
Подполковник Куинн также сделал ряд предложений по борьбе с северокорейскими партизанами, которые начали осуществляться. Однако «эти чрезвычайные акции не могли подавить партизанскую войну в тылах «войск ООН», — приходят к выводу российские исследователи.
4. Недооценка Китая
После того, как американские войска перешли в наступление, стало очевидно, что без помощи союзников — Советского Союза и Китая — КНА не сможет удержать страну. Однако Мао Цзедун колебался: вступать или нет в войну, так как боялся открытого конфликта с США. А Сталин, с начала войны согласившийся на поставку вооружения и помощь военных советников, не давал разрешения на использования авиации, как объясняет российский исследователь Игорь Сейдов в книге «Красные дьяволы» в небе Кореи», потому что тоже опасался объявлять войну Штатам.
Руководство КНР публично заявляло, что Китай вступит в войну, если какие-либо некорейские военные силы пересекут 38-ю параллель. В начале октября соответствующее предупреждение было передано в ООН через посла Индии в Китае. Однако президент Трумэн не верил в возможность широкомасштабного китайского вмешательства, заявляя, что китайские предупреждения являются лишь «попытками шантажировать ООН». Видимо, в этом причина того, что США даже не интересовались «колебаниями» Мао Цзедуна, его консультациями с Москвой и переговорами между Мао, Сталиным и Ким Ир Сеном.
Однако президент Трумэн не верил в возможность широкомасштабного китайского вмешательства, заявляя, что китайские предупреждения являются лишь «попытками шантажировать ООН». Видимо, в этом причина того, что США даже не интересовались «колебаниями» Мао Цзедуна, его консультациями с Москвой и переговорами между Мао, Сталиным и Ким Ир Сеном.
7 октября 1950 года американские войска пересекли 38-ю параллель. «Командование американских войск пребывало в эйфории. 15 октября генерал Макартур встретился на острове Уэйк с президентом Трумэном для обсуждения «финальной стадии» войны в Корее, — пишут российские исследователи Попов, Лавренов и Богданов в книге «Корея в огне войны». — Военно-политическое руководство США явно недооценило силы и намерения Китая. Вероятность китайского военного вторжения была оценена как «низкая», однако в любом случае такое вторжение, по мнению американских военных экспертов, не должно было иметь катастрофических последствий. Макартур расчитывал закончить военные действия к Дню благодарения, который в 1950 году приходился на 23 ноября».
«Китайские народные добровольцы» (так официально именовались китайские войска) общей численностью 260 тысяч человек начали переправляться через реку Ялуцзян в ночь на 19 октября 1950 года. Американская разведка ничего об этом не знала вплоть до 25 октября (то есть в течение недели!), пока китайские дивизии не атаковали южнокорейские войска, которые понесли большие потери.
Потом китайцы еще раз обвели американцев вокруг пальца. В конце ноября Китай начали второе наступление. Чтобы выманить американцев из прочных оборонительных позиций между Ханганом и Пхеньяном, командующий китайскими войсками Пэн Дэхуай дал приказ своим подразделениям имитировать панику. 24 ноября Макартур направил дивизии Юга прямо в ловушку. Обойдя войска ООН с запада, китайцы окружили их 420-тысячной армией и нанесли фланговый удар. На востоке в битве у Чхосинского водохранилища был разбит полк 7-й пехотной дивизии США.
И еще раз Макартур неправильно оценил численность китайских войск у корейской границы в апреле 1951 года, когда китайцы готовили контрнаступление. Более того, недостоверные сведения он передал президенту Трумэну.
Более того, недостоверные сведения он передал президенту Трумэну.
К лету 1951 года боевые действия зашли в тупик. Несмотря на численный перевес в людях и технике, США и их союзники не могли добиться преимущества.
5. Проигранное противостояние в воздухе
О противостоянии в воздухе над Кореей советской и американской авиации написано немало. Это был первый вооруженный конфликт, в котором с обоих сторон участвовали самолеты нового типа — реактивные истребители: МиГ-15 с советской стороны и F-86 с американской. Поначалу американские воздушные силы были представлены истребителями F-80, но советские «МиГи» разделывались с ними шутя. Американские летчики даже прозвали 38-ю параллель «аллеей МиГов». И тогда американцы отправили на фронт новые самолеты — F-86, которые имели примерно равные с «МиГами» характеристики, а в чем-то даже превосходили их. Именно противостояние двух реактивных истребителей стало классикой воздушной войны.
Задача перед советскими летчиками стояла специфическая: обеспечивая прикрытие стратегических объектов, а также поддержку наступавших северокорейских и китайских частей с воздуха, они не должны были вылетать за пределы 38-й параллели (то есть формально нарушать границу Северной Кореи), а также не должны были летать над Желтым морем, где их могли сбить корабли американского флота.
Первые воздушные бои советские летчики проигрывали — нужно было время изучить противника. Но потом отыгрались по полной программе. Два крупнейших поражения американцев произошли в апреле и в октябре 1951 года. В апреле советская авиация уничтожила 10 тяжелых бомбардировщиков и три истребителя, летевших бомбить мосты через реку Ялуцзян. Причем в воздушном бою участвовало всего 44 Мига против 48 бомбардировщиков B-29 «Superfortress» («Суперкрепость») и 76 истребителей прикрытия.
В октябре состоялось еще более массовое воздушное сражение: 21 «летающая крепость» под прикрытием 200 (!) истребителей различных типов отправилась бомбить северокорейский аэродром в Намси. Против них также выступили 44 МиГа. В результате американские самолеты не сбросили ни одной бомбы, а 12 бомбардировщиков В-29 и четыре истребителя F-84 были уничтожены.
Всего в небе над Кореей американцы, по данным, которые приводит Игорь Сейдов, потеряли больше тысячи самолетов. Потери советской авиации составили около 300 машин.
6. Внутренние противоречия в США
Ведение активных боевых действий на Корейском полуострове затруднили внутренние противоречия в США. Как это часто бывает с вооруженными конфликтами далеко за пределами государства, рядовые американцы не понимали, за что погибают их сыны на территории далекой чужой страны. К тому же, генерал Макартур публично осудил президента Трумэна за отказ от вторжения в Китай и использования ядерного оружия. А также направил соответствующее письмо в Конгресс. В ответ на это Трумэн снял Макартура с поста командующего армией.
В результате в условиях тупика, в который зашла война в Корее, а также успеха обвинений генерала МакАртура, на президентских выборах 1952 года демократа Трумэна с большим преимуществом победил кандидат от республиканской партии генерал Дуайт Эйзенхауэр. Одним из предвыборных обещаний Эйзенхауэра было покончить с войной в Корее, и он сдержал его.
«Жизнь в постоянном страхе и напряжении; тяготы гонки вооружений, истощающие богатства и силы всех народов; пустая трата сил, которая игнорирует попытки любой системы достичь подлинного изобилия и счастья для народов этой планеты. Каждая сделанная пушка, каждый сошедший со стапелей военный корабль и каждая новая ракета в конечном счете украдены у тех, кто испытывает голод, но не накормлен, у тех, кто мерзнет, но не имеет одежды», — живописал Эйзенхауэр ужасы войны в своей речи перед Конгрессом. Более того, средства, освободившиеся в результате прекращения боевых действий и разоружения, он пообещал направить в Фонд реконструкции и развития.
Каждая сделанная пушка, каждый сошедший со стапелей военный корабль и каждая новая ракета в конечном счете украдены у тех, кто испытывает голод, но не накормлен, у тех, кто мерзнет, но не имеет одежды», — живописал Эйзенхауэр ужасы войны в своей речи перед Конгрессом. Более того, средства, освободившиеся в результате прекращения боевых действий и разоружения, он пообещал направить в Фонд реконструкции и развития.
Обе партии в Конгрессе отреагировали на эту речь овациями, а госдепартамент и информагентства растираживали ее по всему миру.
В июле 1953 года воюющие стороны подписали перемирие, но мирный договор не заключен до сих пор, и по сей день война формально считается незаконченной. Победителей в ней не оказалось, боевые действия завершились там же, где и начались — на 38-й параллели. США не решили ни одной поставленной задачи. Итогом стало только усиление «холодной войны». Но самый большой парадокс — так и не сделав выводов из неудачного ведения боевых на Корейском полуострове, через 12 лет Соединенные Штаты ввязались в новый военный конфликт в Азии, во Вьетнаме, наступив второй раз на те же грабли и понеся еще большие потери.
Замерзшие американцы и пленные коммунисты. Редкие кадры «забытой» войны в Корее на снимках лейтенанта армии США: Конфликты: Мир: Lenta.ru
Корейская война, начавшаяся в 1950 году, завершилась в 1953-м формальным перемирием, но не мирным договором. Некогда единая страна на долгие десятилетия погрузилась в холодное противостояние, лишь иногда озарявшееся потеплением отношений. И вот в очередной раз в декабре 2021 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сообщил о намерении вместе с Северной Кореей, Китаем и США объявить об окончании Корейской войны. На такую возможность намекнула и Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына: Пхеньян готов пойти на диалог, если США откажутся от своей враждебной политики. Пока переговоры не перешли в реальную плоскость, Забытая война (неофициальное название войны между двумя Кореями, Северной и Южной) формально продолжается. Вспомнить, с чего начался конфликт, как выглядели его непосредственные участники, каким был их военный быт, позволит фотоархив, добытый фотографом и коллекционером Артуром Бондарем. Как выглядела Корейская война в объективе американского лейтенанта — в фоторепортаже «Ленты.ру».
Как выглядела Корейская война в объективе американского лейтенанта — в фоторепортаже «Ленты.ру».
Письмо с войны
Этот архив я приобрел на американском аукционе в 2021 году. Архив состоял из пяти черно-белых пленок типа 35-мм американской фирмы Eastman Kodak Super XX. К нему прилагался почтовый конверт, на котором было имя фотографа и штамп с датой доставки посылки в Америку — 24 июня 1952 года.
Все негативы отсняты Джорджем Толлесоном (George Tolleson) во время Корейской войны в период с 1950 по 1951 год. Толлесон служил лейтенантом в 25-й пехотной дивизии армии США. Благодаря ему сегодня мы можем увидеть Забытую войну глазами ее участника.
Рядовой американской армии возле джипа Willys. Южная Корея. 1950-1951 годы
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Военный конфликт между КНДР и Республикой Корея продолжался с 25 июня 1950-го по 27 июля 1953 года. Один из эпизодов холодной войны сегодня рассматривают как опосредованное противостояние между США c союзниками и силами КНР и СССР.
Предпосылкой к войне стало соглашение между США и СССР, заключенное в конце Второй мировой войны, когда Японию ждала неизбежная капитуляция. 10 августа 1945 года Москва и Вашингтон договорились разделить Корею по 38-й параллели, чтобы японские войска к северу от нее сдались Красной армии, а США приняли капитуляцию южных формирований. Таким образом полуостров был разделен на северную советскую и южную американскую части. Предполагалось, что это разделение будет временным, однако воссоединения не произошло до сих пор.
Начало войны в Корее стало неожиданным для США и других западных стран. В предрассветные часы 25 июня 1950 года северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с южным соседом. Соотношение сил на суше было в пользу КНДР, на море — в пользу Южной Кореи. Несмотря на стремительное продвижение северокорейской армии в первые дни войны, ее главная цель не была достигнута — молниеносной победы не получилось. Тем не менее к середине августа до 90 процентов территории Южной Кореи было занято армией КНДР.
Важнейшие боевые действия начала войны — Тэджонская наступательная операция (3 июля — 25 июля) и Нактонганская операция (26 июля — 20 августа). В ходе Нактонганской операции был нанесен существенный урон 25-й пехотной дивизии США, в которой и служил Джордж Толлесон.
Корабль в Пусан
Поздней осенью 1950 года, отправляясь на пополнение пострадавшей от боев 25-й пехотной дивизии, Толлесон снимает отправку американских транспортных кораблей из японского порта Сасэбо. Вместе с другими военными лейтенант переправляется на японском пассажирском корабле Koan Maru.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Военные с удовольствием позируют друг другу на палубе и фотографируют военные корабли в порту Сасэбо. Среди них был и американский эсминец USS Doyle (DMS-34), который сопровождал транспортные суда во время Корейской войны. Также на снимки Толлесона попадает британский авианосец с самолетами Seafire и другие военные корабли.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Американцев в порту провожает на войну небольшой военный оркестр.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Фотограф делает несколько кадров внутри корабля ночью после отбоя. Очевидно, что этот корабль совсем не приспособлен для переброски войск. Военные лежат где попало в армейских спальниках, вперемешку с вещмешками. Кто-то уже спит, кто-то читает книгу.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
По прибытии в один из портов Южной Кореи, скорее всего в Пусан, американская военная колонна следует в горную часть Южной Кореи частично на поезде, частично на военных автомобилях. В это время в Корее уже выпал снег. На железнодорожных остановках видно корейских мальчишек, которые попрошайничают у вагонов.
Солдатские будни
В Корее Толлесон снимает на пленку будни американской армии: строительство палаточной армейской базы в южнокорейских горах, взрывы, строительство дорог и инфраструктуры, солдатский нужник, штабную палатку с офицерами, а также сослуживцев. Помимо этого в его объектив попадают горные пейзажи, древнее корейское захоронение и пленные солдаты КНР, или, как их называли, китайские народные добровольцы, которых использовали для тяжелых работ.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Пленные солдаты КНР. Южная Корея. 1950-1951 годы.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Американские солдаты охраняют пленных солдат КНР, которые работают на строительстве дороги в расположении 25-й пехотной дивизии. Южная Корея. 1950-1951 годы.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Американские военные в армейской палатке, похожей на штаб части 25-й пехотной дивизии. Южная Корея. 1950-1951 годы.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Капитан американской армии 25-й пехотной дивизии в расположении части в горном районе. Южная Корея. 1950-1951 годы.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Расчистка участка земли от взорванной горной породы. Экскаватор грузит горную породу в кузов армейского грузовика. Южная Корея. 1950-1951 годы.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Взрыв горной породы для прокладки дорог и инфраструктуры. Южная Корея. 1950-1951 годы.
Южная Корея. 1950-1951 годы.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Американский военный позирует с железным ободом от грузовой машины, который служит звуковым оповещателем. На фоне видны американские джипы Willys командного офицера Паркера и капрала Тромбино. Южная Корея. 1950-1951 годы.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Армейский туалет. Южная Корея. 1950-1951 годы.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Американский военный на своей койке в армейской палатке в расположении 25-й пехотной дивизии. Южная Корея. 1950-1951 годы.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Американские военные с котелками в очереди за горячей едой. Южная Корея. 1950 год.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Американские военные на фоне гор. Южная Корея. 1950-1951 годы.
Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря
Американский военный 25-й пехотной дивизии в расположении части в горном районе.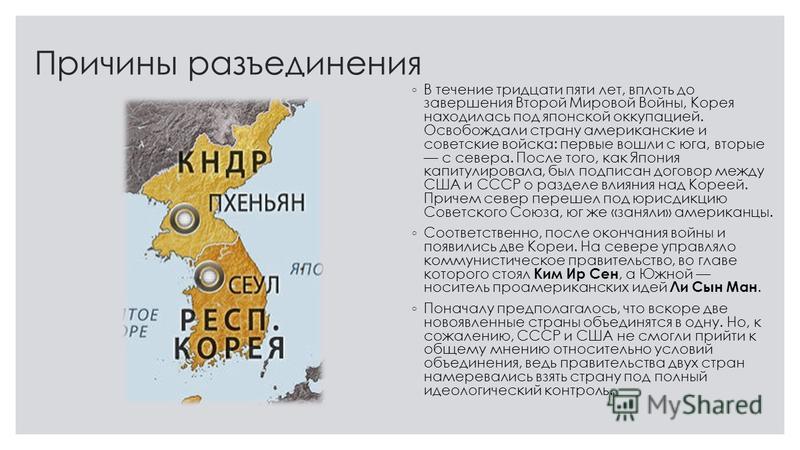 Южная Корея. 1950-1951 годы.
Южная Корея. 1950-1951 годы.
***
Согласно официальной американской статистике, потери США в войне составляли 37 904 военнослужащих убитыми, пленными и пропавшими без вести. 20 апреля 1953 года начался обмен первыми больными и ранеными пленными.
Из-за того, что память о Корейской войне в американской истории игнорировалась в пользу Первой и Второй мировых войн и Вьетнамской войны, ее стали называть Забытая или Неизвестная война.
Корейская проблема в треугольнике США — Китай — Россия
27 июля 2021 г. отмечается очередная печальная годовщина — 68 лет прекращения боевых действий в Корее. Напомним, что формально война так и не была окончена, подписано лишь Соглашение о перемирии. Подписи поставили представители Китая («добровольцев»), КНДР и США (от имени «войск ООН»), тогда как Республика Корея подписывать документ отказалась.
С самого начала в этой горячей точке столкнулись интересы наиболее влиятельных после окончания Второй мировой войны держав — США, СССР, и незадолго до того возникшей, но уже обретшей свою правосубъектность Китайской Народной Республики. Корейская война стала одним из первых шокирующих драматических эпизодов развернувшейся «холодной войны». А США впервые выступили прямой стороной конфликта с «коммунистическим миром».
Корейская война стала одним из первых шокирующих драматических эпизодов развернувшейся «холодной войны». А США впервые выступили прямой стороной конфликта с «коммунистическим миром».
Динамическое равновесие в «треугольнике» на протяжении всего последующего периода холодной войны и стало гарантией самого существования двух корейских государств и относительной стабильности на полуострове. Сегодня Корейский полуостров остается одной из потенциальных зон конфликта, причем в отличие от других региональных конфликтов здесь налицо геополитическое измерение.
В США в последние годы независимо от смены администраций, особенно после фактического приобретения КНДР ядерного статуса, позиция по корейской проблеме определяется как часть стратегии на китайском направлении. Ранее Вашингтон пытался привлечь Пекин к давлению на КНДР, а когда это предсказуемо не получилось, стал использовать корейскую карту против Китая. Пока стратегия Байдена больше похожа на «стратегическое терпение 2.0», так как Вашингтон значимых уступок предложить не готов, а КНДР на заходы американцев не откликается.
Для Китая корейское направление остается одним из приоритетных в военно-политической сфере. Китай озабочен ракетно-ядерными амбициями Пхеньяна и проблемой распространения ядерного оружия. Его появление в КНДР ставит под удар позиции самого Китая в мировом ядерном рейтинге и подрывает его глобальные позиции, служит предлогом для наращивания военного кулака США вблизи его границ. В этом позиции Китая и России близки. Однако КНР выступает и против попыток изолировать и подорвать КНДР. Китайские дипломатические концепции предлагают мирное дипломатическое урегулирование корейской проблемы по двум трекам — ядерное разоружение и обеспечение гарантий безопасности КНДР. Китай не против диалога с США по этой теме, но вряд ли питает большие надежды на то, что ему удастся убедить Вашингтон встать на позиции реализма и заставить принять «стратегическое решение» — признать КНДР и учесть ее озабоченности, закрыв глаза на несовместимую с американской идеологией парадигму режима.
В США фактически утеряли надежду на денуклеаризацию КНДР, то есть отказ от ядерного оружия.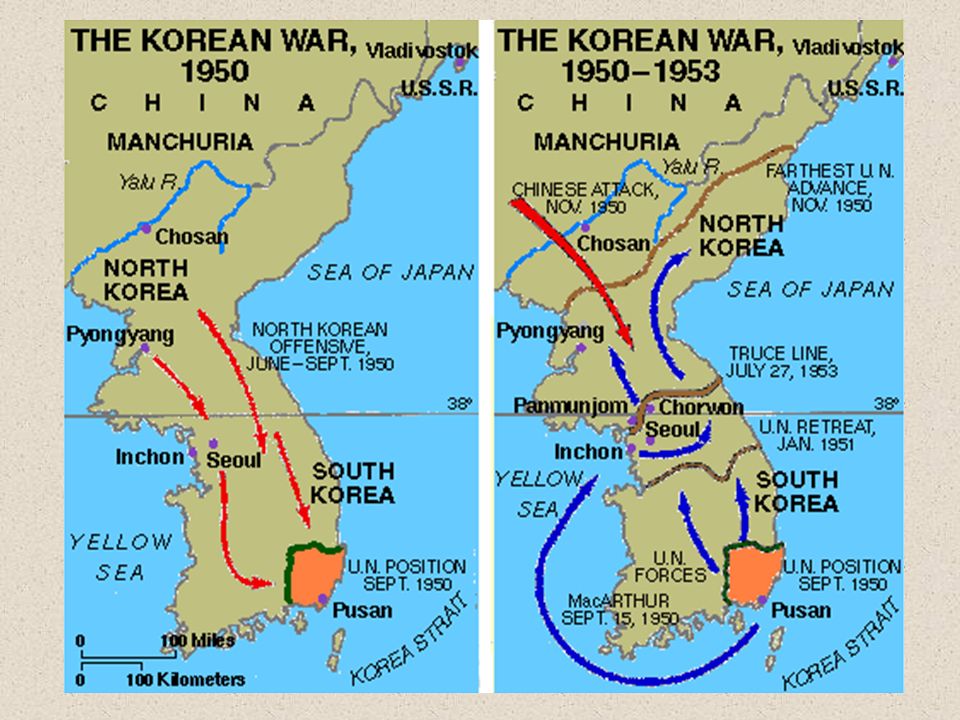 Следующим шагом может стать контроль за вооружениями, недопущение разрастания ракетно-ядерного потенциала КНДР.
Следующим шагом может стать контроль за вооружениями, недопущение разрастания ракетно-ядерного потенциала КНДР.
Вероятный ответ — возможная инициатива организации переговорного процесса по ограничению и сокращению стратегических вооружений на Корейском полуострове. Такие идеи уже бродят в Вашингтоне. Россия в этих условия могла бы взять на себя роль организатора такого переговорного процесса между КНДР и США с участием также Москвы и Пекина. Это открывает поле взаимодействия с США, так как наши две страны — единственные, которые имеют опыт подобного дипломатического процесса (СНВ). Очевидно, должен быть заинтересован в этом и Китай. Так, процесс можно было бы возобновить в рамках каркаса шестисторонних переговоров (замороженных в 2006 году) при том понимании, что вся шестёрка целиком (с участием Южной Кореи и Японии) занималась бы проблемами создания режима региональной безопасности.
Наследие «холодной войны»
27 июля 2021 г. отмечается очередная печальная годовщина — 68 лет прекращения боевых действий в Корее. Напомним, что формально война так и не была окончена, подписано лишь Соглашение о перемирии. Подписи поставили представители Китая («добровольцев»), КНДР и США (от имени «войск ООН»), тогда как Республика Корея подписывать документ отказалась.
Напомним, что формально война так и не была окончена, подписано лишь Соглашение о перемирии. Подписи поставили представители Китая («добровольцев»), КНДР и США (от имени «войск ООН»), тогда как Республика Корея подписывать документ отказалась.
С самого начала в этой горячей точке столкнулись интересы наиболее влиятельных после окончания Второй мировой войны держав — США, СССР, и незадолго до того возникшей, но уже обретшей свою правосубъектность Китайской Народной Республики. Корейская война стала одним из первых шокирующих драматических эпизодов развернувшейся «холодной войны». А США впервые выступили прямой стороной конфликта с «коммунистическим миром». СССР остался за кулисами — правда, советские летчики непосредственно сражались с американцами. Но на грани поражения КНДР в войну вынужден был самым непосредственным образом вмешаться Китай, пославший почти миллионный корпус «добровольцев», которые и решили исход конфликта. СССР такому вовлечению Китая в «общее дело» был рад — есть предположения, что это именно по хитрому замыслу Сталина, который хотел исключить возможность американо-китайского сближения, Китай стал ударной силой «социалистической системы» в этой войне.
Георгий Булычев:
Шестисторонний дипломатический проект — поможет ли он денуклеаризации Корейского полуострова?
Динамическое равновесие в «треугольнике» на протяжении всего последующего периода холодной войны и стало гарантией самого существования двух корейских государств и относительной стабильности на полуострове. Нарушение этого баланса сил в результате распада СССР подтолкнуло КНДР, напуганную утерей главного союзника, к созданию собственного ядерного «стратегического уравнителя». И все же, несмотря на возросшую способность КНДР самостоятельно обеспечивать свою безопасность, общая диспозиция в геополитическом треугольнике и сегодня изменилась мало, хотя, конечно, соотношение сил претерпело значительные изменения в результате роста мощи Китая на фоне ослабления роли России в связи с распадом СССР.
Сегодня Корейский полуостров остается одной из потенциальных зон конфликта, причем в отличие от других региональных конфликтов здесь налицо геополитическое измерение.
В случае нестабильности в КНДР (скажем, из-за экономического или политического кризиса, волнений, инициированной извне «цветной революции») в конфликт сразу же окажутся непосредственно втянуты США, группировка войск которых расквартирована в Южной Корее. Вашингтон в рамках новой стратегии в регионе, названным им «Индо-Тихоокеанским», формирует по сути антикитайской блок на основе «алмаза демократий» — QUAD, куда активно тянут и Южную Корею
Кризис в КНДР привел бы не к «смене режима», а исчезновению КНДР как государства — Северная Корея немедленно будет поглощена Югом. В таком случае геополитические последствия выдвижение военного потенциала США к китайским границам трудно переоценить.
Конечно, Китай, на границе которого происходил бы конфликт, не сможет остаться в стороне. Утрата КНДР суверенитета нанесла бы чувствительный удар по продвигаемым КНР и Россией концепциям многополярного, основанного на уважении суверенитета и международном праве «Вестфальского» мира. Для Китая это к тому же стало бы неприятным свидетельством ограниченности его возможностей, «потерей лица» в международном масштабе.
Утрата КНДР суверенитета нанесла бы чувствительный удар по продвигаемым КНР и Россией концепциям многополярного, основанного на уважении суверенитета и международном праве «Вестфальского» мира. Для Китая это к тому же стало бы неприятным свидетельством ограниченности его возможностей, «потерей лица» в международном масштабе.
Вероятно, нельзя исключить и сценарий, когда в случае кризиса Китай возьмет Северную Корею (или ее часть) под свое «покровительство». Это вызвало бы крайне болезненную реакцию США и в целом Запада, многих азиатских стран — привело бы к смене глобального политического уравнения, в котором Китаю была бы назначена роль главного «злодея».
В Восточной Азии в обоих случаях возник бы долговременный очаг военно-политической конфронтации и ситуация гонки вооружений.
Неудивительно, что всеми вовлеченными великими державами корейский вопрос ныне воспринимается в контексте более широкой геополитической мозаики. При этом значение этого фрагмента мозаики все более возрастает, благодаря усиливающейся биполярной конфронтации США и КНР.
Позиции великих держав
В США в последние годы независимо от смены администраций, особенно после фактического приобретения КНДР ядерного статуса, позиция по корейской проблеме определяется как часть стратегии на китайском направлении. Ранее Вашингтон пытался привлечь Пекин к давлению на КНДР, а когда это предсказуемо не получилось, стал использовать корейскую карту против Китая.
Глеб Ивашенцов:
Будет ли конец Корейской войне?
Такие «метания», в частности, были характерны для администрации Д. Трампа. Будучи в плену завышенных представлений о степени влияния Пекина на Пхеньян, Трамп поначалу пытался добиться от Китая участия в его кампании «максимального давления», зачастую не выбирая средств воздействия на Китай.
Администрация Байдена более трезво оценивает ситуацию. По словам споуксмена Президента Дж. Псаки, линия Белого дома, разработанная в результате продолжавшейся несколько месяцев работы по «обзору» политики в Корее, предусматривает «выверенный («калиброванный») практический подход, который открыт для дипломатии с Северной Кореей», и направлен на «достижение «практического прогресса», который повышает безопасность Соединенных Штатов и их союзников». Сделаны символические жесты в виде подтверждения США приверженности Сингапурской декларации и Пханмунджомской декларации Севера и Юга, назначения спецпредставителя по корейской проблеме. В Вашингтоне утверждают, что такая политика реалистична и является равноудаленной как от попытки заключения «большой сделки» Трампа, так и «стратегического терпения» (игнорирования и сдерживания ) президента Обамы.
На деле, однако, пока стратегия Байдена больше похожа на «стратегическое терпение 2.0», так как Вашингтон значимых уступок предложить не готов, а КНДР на заходы американцев не откликается. По оценкам влиятельных южнокорейских политологов, разрекламированная линия не произвела особого впечатления на Пхеньян — он требует прекращения «политики враждебности», которая угрожает самому существованию страны.
Что касается Китая, неплохая команда специалистов по корейской проблеме в администрации Байдена понимает, что Китай ни в коем случае не «сдаст» КНДР, поскольку она остается «буфером» между его северо-востоком и азиатской группировкой войск США, и утрата даже столь одиозного клиента стала бы неприемлемым геополитическим ущербом для Пекина. Поэтому диалог с Пекином по корейской теме представляет для Вашингтона интерес, и попытки его форсировать уже осуществляются. Однако расчет на то, что такой диалог принесёт американцам нужные им результаты, иллюзорны. Китай сейчас откровенно сопротивляется попыткам США оказывать давление на КНДР и не желает усердствовать в соблюдении санкций против Пхеньяна.
Китай сейчас откровенно сопротивляется попыткам США оказывать давление на КНДР и не желает усердствовать в соблюдении санкций против Пхеньяна.
Для Китая корейское направление остается одним из приоритетных в военно-политической сфере. Китай озабочен ракетно-ядерными амбициями Пхеньяна и проблемой распространения ядерного оружия. Его появление в КНДР ставит под удар позиции самого Китая в мировом ядерном рейтинге и подрывает его глобальные позиции, служит предлогом для наращивания военного кулака США вблизи его границ. В этом позиции Китая и России близки.
Однако КНР выступает и против попыток изолировать и подорвать КНДР. Несмотря на разновекторность социально-политического развития, Китай не может откровенно отвергнуть или критиковать политический режим в КНДР и идеологию чучхе с «опорой на собственные силы». После охлаждения в отношениях в начале эры Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, диалог на высшем уровне с 2018 г. возобновился и играет важную роль в координации позиций двух стран. У Китая — определенная сдерживающая роль, так как к советам Пекина в Пхеньяне прислушиваются. Там понимают, что КНР в неменьшей степени заинтересована в сохранении стабильности северокорейского государства и будет активно противодействовать внешним попыткам его подрыва. Китай также негласно оказывает заметную экономическую помощь КНДР, закрывает глаза на нелегальные экспортно-импортные операции Пхеньяна через его территорию и даже направленные на извлечение выгоды финансовые и кибероперации, часто незаконные.
У Китая — определенная сдерживающая роль, так как к советам Пекина в Пхеньяне прислушиваются. Там понимают, что КНР в неменьшей степени заинтересована в сохранении стабильности северокорейского государства и будет активно противодействовать внешним попыткам его подрыва. Китай также негласно оказывает заметную экономическую помощь КНДР, закрывает глаза на нелегальные экспортно-импортные операции Пхеньяна через его территорию и даже направленные на извлечение выгоды финансовые и кибероперации, часто незаконные.
Китайские дипломатические концепции предлагают мирное дипломатическое урегулирование корейской проблемы по двум трекам — ядерное разоружение и обеспечение гарантий безопасности КНДР. Министр иностранных дел Китая Ван И недавно подчеркнул необходимость «диалога и мирного урегулирования» и «поэтапных и синхронизированных действий» для решения проблемы денуклеаризации, заявив при этом, что США «необходимо пересмотреть свои непрекращающиеся военные угрозы и давление на КНДР на протяжении десятилетий». «Учитывая меры, которые КНДР приняла в направлении денуклеаризации и смягчения ситуации, США должны проявить свою искренность и дать ответ» — сказал он.
«Учитывая меры, которые КНДР приняла в направлении денуклеаризации и смягчения ситуации, США должны проявить свою искренность и дать ответ» — сказал он.
Китай не против диалога с США по этой теме, но вряд ли питает большие надежды на то, что ему удастся убедить Вашингтон встать на позиции реализма и заставить принять «стратегическое решение» — признать КНДР и учесть ее озабоченности, закрыв глаза на несовместимую с американской идеологией парадигму режима.
Конфронтационная стабильность и приоритеты России
Константин Асмолов:
Нет перспективы денуклеаризации КНДР
После провала американо-северокорейского саммита в Ханое в феврале 2019 г. ситуация в корейском урегулировании оказалась в тупике, но уже не воспринимается, как критическая, и перестала вызывать острую международную озабоченность, вновь перейдя в категорию хронических неизлечимых проблем мировой политики. Такая ситуация, несмотря на риторику, в целом, в разной степени устраивает великие державы.
Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын после первой встречи с Трампом в Сингапуре в июне 2020 г. считал, что сможет добиться исторического прорыва в получении признания со стороны США, отдавая, впрочем, себе отчет в том, что смена власти в США может свести этот успех на нет. Автор считает правомерными догадки о том, что Ким надеялся договориться американцами о примирении по «вьетнамской модели». Это предполагало бы сближение КНДР с США при получении гарантий «отказа от враждебной политики» в обмен на дистанцирование от КНР. Естественно, что исторически и политически обусловленная зависимость от Пекина тяготит северокорейских руководителей. На мой взгляд, хрустальная мечта северокорейцев — найти баланс между Пекином и Вашингтоном, чтобы быть нужным в качестве «плацдарма» обоим и на этой основе «сосать двух маток», извлекать политические и экономические дивиденды от обоих противников. Подобно тому, как КНДР успешно применяла такую модель в период советско-китайского противостояния. Понятно, что Китай внимательно отслеживает такого рода замыслы.
Понятно, что Китай внимательно отслеживает такого рода замыслы.
В отличие от Вьетнама, однако, помешала ядерная проблема. По не связанным с корейской и даже региональной ситуацией причинам США, во избежание подрыва свих доминирующих позиций в глобальном балансе ядерного устрашения, необходимо исключить появление новых ядерных «игроков», тем более таких одиозных, как КНДР. Такую позицию разделяет и Китай, и Россия.
В Ханое Ким предложил поэтапный подход — для начала закрыть ключевой ядерный комплекс в Нёнбене и попросил смягчения санкций, однако консервативный американский истеблишмент во главе с Дж. Болтоном сорвал сделку. После этого Ким разочаровался в дипломатии, прекратил контакты с американцами. Его повестка в отношении США — прекращение совместных учений войск США и РК, неразмещение стратегического оружия на Корейском полуострове, подписание декларации о прекращении войны и создание мирного режима на Корейском полуострове, нормализации отношений, а для начала — смягчения санкций для обеспечения «права на развитие. Понимая, что Вашингтон к этому не готов, Пхеньян решил отказаться от контактов, ожидая, пока американский правящий класс «созреет».
Понимая, что Вашингтон к этому не готов, Пхеньян решил отказаться от контактов, ожидая, пока американский правящий класс «созреет».
Очевидно, реализация такого замысла способствовала бы повышению для США значимости КНДР — то есть, восприятию ее как угрозы. С учетом того, что военный путь решения не приемлем из-за ядерного потенциала КНДР, США, мол, придется найти формулу сосуществования. Такие планы, однако, встретили бы резкий протест Китая. Соблазн возвратиться к военным провокациям велик, но пока что Кима устраивает нынешнее положение. Это отвечает и интересам и Китая, и России.
В США фактически утеряли надежду на денуклеаризацию КНДР, то есть отказ от ядерного оружия. Следующим шагом может стать контроль за вооружениями, недопущение разрастания ракетно-ядерного потенциала КНДР.
Вероятный ответ — возможная инициатива организации переговорного процесса по ограничению и сокращению стратегических вооружений на Корейском полуострове. Такие идеи уже бродят в Вашингтоне. Россия в этих условия могла бы взять на себя роль организатора такого переговорного процесса между КНДР и США с участием также Москвы и Пекина. Это открывает поле взаимодействия с США, так как наши две страны — единственные, которые имеют опыт подобного дипломатического процесса (СНВ). Очевидно, должен быть заинтересован в этом и Китай. Так, процесс можно было бы возобновить в рамках каркаса шестисторонних переговоров (замороженных в 2006 году) при том понимании, что вся шестёрка целиком (с участием Южной Кореи и Японии) занималась бы проблемами создания режима региональной безопасности.
Такие идеи уже бродят в Вашингтоне. Россия в этих условия могла бы взять на себя роль организатора такого переговорного процесса между КНДР и США с участием также Москвы и Пекина. Это открывает поле взаимодействия с США, так как наши две страны — единственные, которые имеют опыт подобного дипломатического процесса (СНВ). Очевидно, должен быть заинтересован в этом и Китай. Так, процесс можно было бы возобновить в рамках каркаса шестисторонних переговоров (замороженных в 2006 году) при том понимании, что вся шестёрка целиком (с участием Южной Кореи и Японии) занималась бы проблемами создания режима региональной безопасности.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Причины войны в Корее — HISTORY CRUNCH
ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ В КОРЕЙЕ
Война в Корее была первым крупным конфликтом после окончания Второй мировой войны и первой войны холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Это война между Северной Кореей и Южной Кореей в начале 1950-х годов. Север пользовался поддержкой союзников-коммунистов, включая Советский Союз и Китай, а юг — Западом и Соединенными Штатами. На самом деле Соединенные Штаты играли большую роль в конфликте на протяжении нескольких лет. Из-за периода времени и характера Корейской войны историки сегодня считают ее опосредованной войной эпохи холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сегодня историки в целом согласны с несколькими основными причинами Корейской войны, в том числе: распространение коммунизма во время холодной войны, сдерживание Америки и японская оккупация Кореи во время Второй мировой войны.
Это война между Северной Кореей и Южной Кореей в начале 1950-х годов. Север пользовался поддержкой союзников-коммунистов, включая Советский Союз и Китай, а юг — Западом и Соединенными Штатами. На самом деле Соединенные Штаты играли большую роль в конфликте на протяжении нескольких лет. Из-за периода времени и характера Корейской войны историки сегодня считают ее опосредованной войной эпохи холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сегодня историки в целом согласны с несколькими основными причинами Корейской войны, в том числе: распространение коммунизма во время холодной войны, сдерживание Америки и японская оккупация Кореи во время Второй мировой войны.
Основной причиной, по которой Соединенные Штаты вмешались в дела Кореи, была цель сделать все возможное, чтобы не допустить распространения коммунизма по всему миру. С началом холодной войны Соединенные Штаты практиковали политику сдерживания распространения коммунизма и хотели предотвратить укоренение этой идеологии в различных регионах мира. Со своей стороны, Советский Союз активно поддерживал распространение коммунизма по всему миру в таких местах, как Куба, Корея, Вьетнам и Восточная Европа. Американскую политику сдерживания часто называют Доктриной Трумэна, поскольку американский президент Гарри С. Трумэн утверждал, что Соединенные Штаты должны активно поддерживать сдерживание советского коммунизма сразу после Второй мировой войны. В дополнение к этой идее, причины участия Америки в Корейской войне часто рассматриваются как часть теории домино.
Со своей стороны, Советский Союз активно поддерживал распространение коммунизма по всему миру в таких местах, как Куба, Корея, Вьетнам и Восточная Европа. Американскую политику сдерживания часто называют Доктриной Трумэна, поскольку американский президент Гарри С. Трумэн утверждал, что Соединенные Штаты должны активно поддерживать сдерживание советского коммунизма сразу после Второй мировой войны. В дополнение к этой идее, причины участия Америки в Корейской войне часто рассматриваются как часть теории домино.
Корейская война | Теория домино |
Теория домино была верой эпохи холодной войны, популярной в Соединенных Штатах с 1950-х годов до конца холодной войны. Основанная на доктрине Трумэна, теория придерживалась идеи о том, что если советский коммунизм смог распространиться на одну страну, то он мог распространиться и на все другие соседние страны. Основная идея заключалась в том, что американцам нужно было предотвратить падение первой костяшки домино (поворот страны к коммунизму), чтобы предотвратить распространение коммунизма. Таким образом, историки теперь утверждают, что Соединенные Штаты использовали теорию домино, чтобы оправдать свое участие в Корее, как это было в более поздней войне во Вьетнаме.
Таким образом, историки теперь утверждают, что Соединенные Штаты использовали теорию домино, чтобы оправдать свое участие в Корее, как это было в более поздней войне во Вьетнаме.
Конфликт в Корее начался в 1945 году, в конце Второй мировой войны. Поскольку Япония оккупировала Корейский полуостров в годы до и во время Второй мировой войны, и Советский Союз, и Соединенные Штаты работали над освобождением региона от японцев. Советский Союз вторгся в северную часть Кореи в августе 1945 года и освободил ее от японского контроля, а американские войска вскоре после этого освободили южную половину. К 1948 году Корея была официально разделена на две половины с отдельными правительствами вдоль 38-й параллели. Северную Корею во время войны возглавлял Ким Ир Сен, который правил страной как диктатор. Южную Корею возглавит президент Сингман Ри, государственный деятель-антикоммунист.
Ким Ир Сен | Ри | Трумэн | Сталин | Мао Цзэдун |
Между 1948 и 1950 годами напряженность между двумя сторонами нарастала, пока, наконец, в 19 году не начались боевые действия. 50. Во время Корейской войны несколько ключевых мировых лидеров сыграли важную роль. Президентом Соединенных Штатов был Гарри С. Трумэн, который сегодня наиболее известен своим решением использовать атомные бомбы против Японии в конце Второй мировой войны. Во время Корейской войны он поддерживал Южную Корею и правительство Ли Сын Мана. На стороне Северной Кореи был Советский Союз, которым руководил Иосиф Сталин. Сегодня Сталин считается жестоким диктатором, руководившим в первые годы холодной войны против Соединенных Штатов. Наконец, Мао Цзэдун возглавил Китай, который вступил в войну после того, как силы ООН пересекли 38-ю параллель в Северной Корее. Мао Цзэдун был коммунистическим правителем Китая после того, как возглавил коммунистическую революцию в стране в 1949.
50. Во время Корейской войны несколько ключевых мировых лидеров сыграли важную роль. Президентом Соединенных Штатов был Гарри С. Трумэн, который сегодня наиболее известен своим решением использовать атомные бомбы против Японии в конце Второй мировой войны. Во время Корейской войны он поддерживал Южную Корею и правительство Ли Сын Мана. На стороне Северной Кореи был Советский Союз, которым руководил Иосиф Сталин. Сегодня Сталин считается жестоким диктатором, руководившим в первые годы холодной войны против Соединенных Штатов. Наконец, Мао Цзэдун возглавил Китай, который вступил в войну после того, как силы ООН пересекли 38-ю параллель в Северной Корее. Мао Цзэдун был коммунистическим правителем Китая после того, как возглавил коммунистическую революцию в стране в 1949.
25 июня 1950 года конфликт обострился, когда войска Северной Кореи вторглись на юг при поддержке Советского Союза. Более 80 000 солдат прошли с севера до южных границ, где всего за 3 дня захватили Сеул, столицу Южной Кореи. Корейская война началась.
Корейская война началась.
ССЫЛКА НА ЭТУ СТАТЬЮАВТОР
НАЗВАНИЕ
Веб -сайт/Издатель
URL
|
Сдерживание и корейский «конфликт»
9.4 Сдерживание и корейский «конфликт»
Цели обучения
- Объяснить происхождение Корейской войны. Объясните, почему Соединенные Штаты и другие страны вмешались.
- Кратко изложите военную историю Корейской войны. Объясните, почему южнокорейские силы и силы ООН смогли сплотиться после того, как их зажали в Пусане, и почему они в конечном итоге были отброшены к 38-й параллели.

- Объясните, как внутренние проблемы Соединенных Штатов повлияли на войну в Корее. Объясните, как война повлияла на политику США.
Корейскую войну часто называют «забытой войной» из-за ее маргинализации в исторических записях. Однако война окажет драматическое влияние на Соединенные Штаты и их внешнюю политику в ближайшие десятилетия. В то время ряд видных американских лидеров опасались, что события могут выйти из-под контроля, как это произошло в 1914 и 1939. В какой-то момент сам президент Трумэн считал, что события в Корее могут привести к глобальной войне. Среди тех, кто предсказывал, что Корея разожжет Третью мировую войну, были изоляционисты, считавшие, что Америке нечего делать в Азии. Другие считали, что судьба «свободного мира» зависит от того, преуспеют ли коммунистические силы в своих усилиях по установлению контроля над Корейским полуостровом. В конце концов Корейская война привела к возвращению к статус-кво Северной и Южной Кореи, но было создано несколько важных прецедентов. Соединенные Штаты решили, что они будут использовать военную силу, чтобы остановить распространение коммунизма. Кроме того, президент мог вести войну без прямого одобрения Конгресса. По сей день трехлетняя война, унесшая жизни 35 000 американских солдат и примерно от 2 до 3 миллионов корейцев, официально известна в правительственных отчетах как «корейский конфликт».
Соединенные Штаты решили, что они будут использовать военную силу, чтобы остановить распространение коммунизма. Кроме того, президент мог вести войну без прямого одобрения Конгресса. По сей день трехлетняя война, унесшая жизни 35 000 американских солдат и примерно от 2 до 3 миллионов корейцев, официально известна в правительственных отчетах как «корейский конфликт».
Истоки Корейской войны
Рисунок 9.18
Китайский пропагандистский плакат, на котором американский генерал Дуглас Макартур убивает мать и ребенка, в то время как американские бомбардировщики распространяют войну на Китай, атакуя его мирных жителей.
Хотя обе стороны предварительно работали вместе, чтобы защитить свою страну от японских войск во время Второй мировой войны, гражданская война в Китае возобновилась в 1945 году. В мае 1949 года коммунистический лидер Мао Цзэдун вышел победителем и провозгласил Китайскую Народную Республику. Соединенные Штаты поддержали националиста Чан Кайши, который теперь бежал на Тайвань. Соединенные Штаты отказались признать власть правительства Мао и заявили, что изгнанное правительство Чанга на Тайване является законным правительством материкового Китая в течение следующих двух десятилетий. Обеспокоенность западных членов Организации Объединенных Наций по поводу того, что коммунистическому Китаю будет позволено занять одно из влиятельных постоянных мест в Совете Безопасности ООН, также привела к тому, что небольшое правительство Чанга представляло Китай в Организации Объединенных Наций до 19 сентября.71.
Соединенные Штаты отказались признать власть правительства Мао и заявили, что изгнанное правительство Чанга на Тайване является законным правительством материкового Китая в течение следующих двух десятилетий. Обеспокоенность западных членов Организации Объединенных Наций по поводу того, что коммунистическому Китаю будет позволено занять одно из влиятельных постоянных мест в Совете Безопасности ООН, также привела к тому, что небольшое правительство Чанга представляло Китай в Организации Объединенных Наций до 19 сентября.71.
Победа коммунистов пришла, несмотря на помощь США в размере 2 миллиардов долларов из-за народной поддержки Мао и коррумпированности и неэффективности режима Чан Кай-ши. Послание Мао и других коммунистических лидеров понравилось большинству безземельных и бедных крестьян Китая, поскольку оно обещало равное распределение земли и богатства. Напротив, Чан Кай-ши применил смертоносную силу против крестьян, протестовавших против роста цен на продукты питания. Администрация Трумэна утверждала, что Соединенные Штаты мало что могли сделать для предотвращения коммунистического захвата Китая и что прямое военное вмешательство было бы трагической ошибкой. Однако все больше американцев начинало верить обвинениям республиканских лидеров в том, что демократы виноваты в распространении коммунизма в Азии. Несмотря на свои опасения по поводу автократа Чан Кайши, Соединенные Штаты продолжали признавать его правительство в изгнании в качестве официального правительства Китая. Тем временем коммунистическое правительство Мао Цзэдуна работало над укреплением своей власти и распространением коммунизма на континенте.
Однако все больше американцев начинало верить обвинениям республиканских лидеров в том, что демократы виноваты в распространении коммунизма в Азии. Несмотря на свои опасения по поводу автократа Чан Кайши, Соединенные Штаты продолжали признавать его правительство в изгнании в качестве официального правительства Китая. Тем временем коммунистическое правительство Мао Цзэдуна работало над укреплением своей власти и распространением коммунизма на континенте.
В Корее была аналогичная гражданская война между националистическими и коммунистическими силами после окончания Второй мировой войны. Корея была оккупирована Японией до конца Второй мировой войны, когда дипломатическое соглашение потребовало японских войск к северу от линии 38-й параллели, проходящей на полпути через Корейский полуостров, которая использовалась в качестве разделительной линии между советским и американским секторами во время послевоенного восстановления Кореи. Линия вскоре стала границей между коммунистической Северной Кореей и некоммунистической Южной Кореей. сдаться Советам, а те, что к югу от параллели, сдались американцам. Точно так же, как Германия была разделена на разные сектора, Корея вскоре была разделена пополам по 38-й параллели. И Соединенные Штаты на Юге, и Советский Союз на Севере установили правительства, благоприятные для их собственной политической ориентации.
сдаться Советам, а те, что к югу от параллели, сдались американцам. Точно так же, как Германия была разделена на разные сектора, Корея вскоре была разделена пополам по 38-й параллели. И Соединенные Штаты на Юге, и Советский Союз на Севере установили правительства, благоприятные для их собственной политической ориентации.
В Южной Корее Соединенные Штаты призвали к выборам, чтобы заменить популярного коммунистического лидера, который возглавлял сопротивление этой страны Японии во Второй мировой войне. Сменивший его Ли Сын Ман был далеко не таким авторитарным, как Чан Кайши. Однако, как и лидер китайских националистов в изгнании, Ли Сын Ман никогда не пользовался народной поддержкой и мало уважал демократию. На севере Советы поддерживали коммунистическое правительство во главе с корейским националистом Ким Ир Сеном, который боролся против японской оккупации Кореи и был назначен советскими официальными лицами руководителем Временного коммунистического правительства Северной Кореи.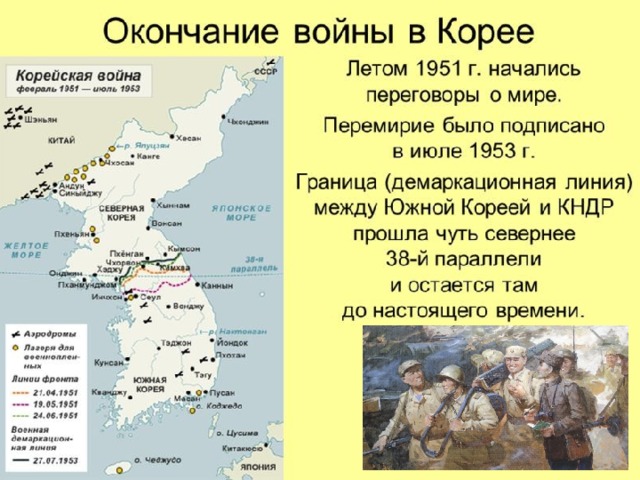 В 19В 48 г. Ким стал главой коммунистического правительства Северной Кореи, который еще меньше заботился о мнении корейского народа, идеи которого отличались от его собственных. По оценкам историков, в период с 1945 по 1950 год погибло до 100 000 корейцев, когда Ли и Ким Ир Сен стремились воссоединить Корею под своим правлением. Кроме того, обе стороны (особенно авторитарный Ким Ир Сен) использовали силу, чтобы заставить замолчать своих противников в своих частях Корейского полуострова.
В 19В 48 г. Ким стал главой коммунистического правительства Северной Кореи, который еще меньше заботился о мнении корейского народа, идеи которого отличались от его собственных. По оценкам историков, в период с 1945 по 1950 год погибло до 100 000 корейцев, когда Ли и Ким Ир Сен стремились воссоединить Корею под своим правлением. Кроме того, обе стороны (особенно авторитарный Ким Ир Сен) использовали силу, чтобы заставить замолчать своих противников в своих частях Корейского полуострова.
После четырех лет оккупации советские и американские войска покинули Корею. И Ли, и Ким Ир Сен заявили, что они являются законными правителями Кореи, и оба обязались объединить полуостров под своим правительством. Северокорейцы при Ким Ир Сене имели то преимущество, что получали советские танки и другое технически совершенное оборудование, в то время как американцы не решались оказывать аналогичную помощь Южной Корее. Это нежелание было вызвано двумя основными причинами: первой была коррумпированность правительства Ли Сын Мана, а второй — то, что большинство американских лидеров уделяли больше внимания Европе, чем Азии. Это резко изменится 25 июня 19 года.50, когда северокорейские войска вторглись в Южную Корею.
Это резко изменится 25 июня 19 года.50, когда северокорейские войска вторглись в Южную Корею.
Президент Трумэн, уже подвергавшийся резкой критике со стороны растущего республиканского контингента в Конгрессе за «мягкое отношение к коммунизму», был полон решимости помешать коммунистам захватить Южную Корею. Трумэн заказал военно-морскую и авиационную поддержку Южной Кореи. Большинство американцев в то время считали, что Сталин руководил нападением Северной Кореи, и Конгресс, и общественность подавляющим большинством голосов одобрили более позднее привлечение Трумэном сухопутных войск США. Хотя более поздние критики обвинили президента в ведении войны без специального разрешения Конгресса, ассигнования Палаты представителей на увеличение военного бюджета почти не встретили сопротивления. Кроме того, лишь несколько сенаторов даже указали, что президент не добивался объявления войны. Американский народ еще больше поддержал действия Трумэна, полагая, что ожидание одобрения Конгресса могло вызвать серьезные задержки.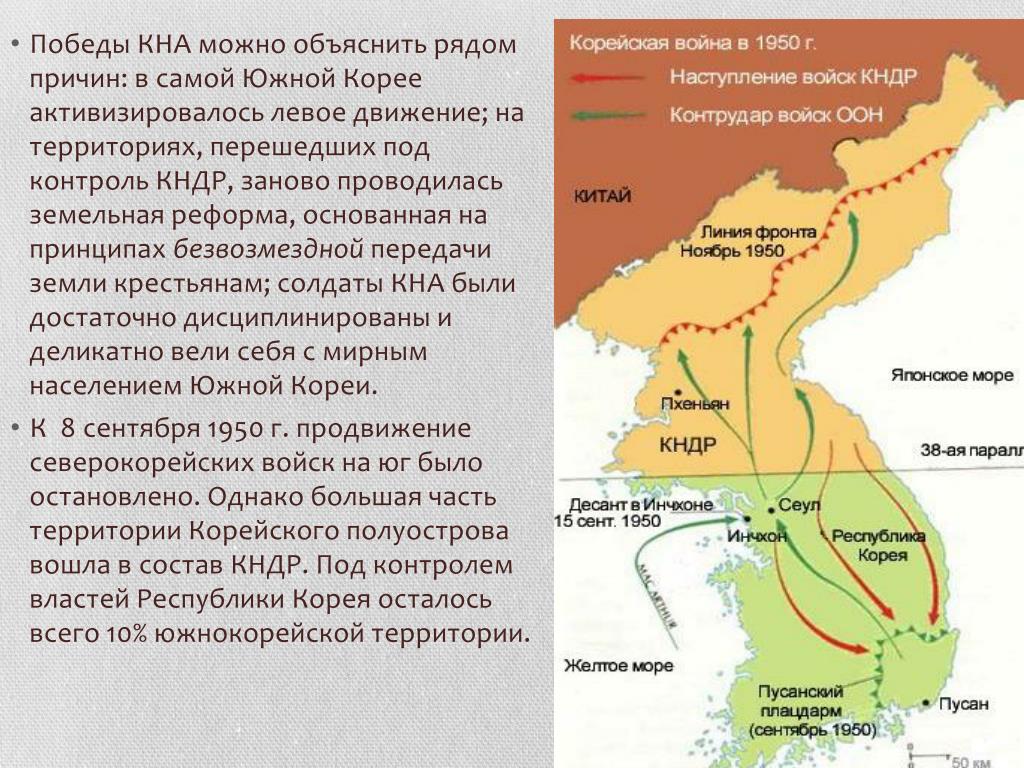 После того, как война зашла в тупик, все больше американцев стали выступать против действий своей страны в Корее, и ни Трумэн, ни Эйзенхауэр не вернулись в Конгресс, чтобы добиваться официального объявления войны.
После того, как война зашла в тупик, все больше американцев стали выступать против действий своей страны в Корее, и ни Трумэн, ни Эйзенхауэр не вернулись в Конгресс, чтобы добиваться официального объявления войны.
Оглядываясь назад, можно сказать, что если бы вторжение Северной Кореи было частью плана Красной Армии, решительные, но односторонние действия Трумэна могли бы привести к прямому военному конфликту с Советским Союзом. Северная Корея продолжала получать советские поставки и благословение Сталина на протяжении всей войны, но похоже, что Ким Ир Сен поддерживал вторжение в Южную Корею и не был просто марионеткой Сталина. Северокорейский лидер признал, что главной заботой Америки была Европа, и его вторжение было основано на его уверенности в том, что Соединенные Штаты не будут использовать свои вооруженные силы для защиты режима Ли на Юге. Однако после Второй мировой войны Южная Корея была обязанностью Соединенных Штатов, и поэтому Трумэн считал, что ее вторжение коммунистического режима заставит многих усомниться в приверженности Соединенных Штатов тем, кто борется с коммунизмом по всему миру. Помимо предполагаемого вызова авторитету США, ситуация в Корее произошла всего через год после коммунистического захвата соседнего Китая. Стремительный ход событий казался многим американцам доказательством теории домино и ее предупреждением об инерции одной коммунистической победы, быстро распространяющейся на весь регион. американцы, мало знавшие Корею в 1949 с тревогой ждали выхода каждой ежедневной газеты, желая узнать, что войска США повернули вспять коммунистическую волну, которая, как они опасались, могла захлестнуть всю Юго-Восточную Азию.
Помимо предполагаемого вызова авторитету США, ситуация в Корее произошла всего через год после коммунистического захвата соседнего Китая. Стремительный ход событий казался многим американцам доказательством теории домино и ее предупреждением об инерции одной коммунистической победы, быстро распространяющейся на весь регион. американцы, мало знавшие Корею в 1949 с тревогой ждали выхода каждой ежедневной газеты, желая узнать, что войска США повернули вспять коммунистическую волну, которая, как они опасались, могла захлестнуть всю Юго-Восточную Азию.
Вторжение в тупик
Те американцы, которые смотрели новости из Кореи в июне и июле 1950 года, не нашли ничего, что могло бы поднять их настроение. Почти 100 000 солдат, многие из которых сражались на стороне коммунистических сил Мао в Китае, обрушились на неподготовленную армию Южной Кореи и быстро заняли столицу Сеул. Организация Объединенных Наций осудила агрессию Севера, но единственными членами ООН, которые направили значительное количество войск для борьбы с армиями Ким Ир Сена, были Соединенные Штаты и Южная Корея.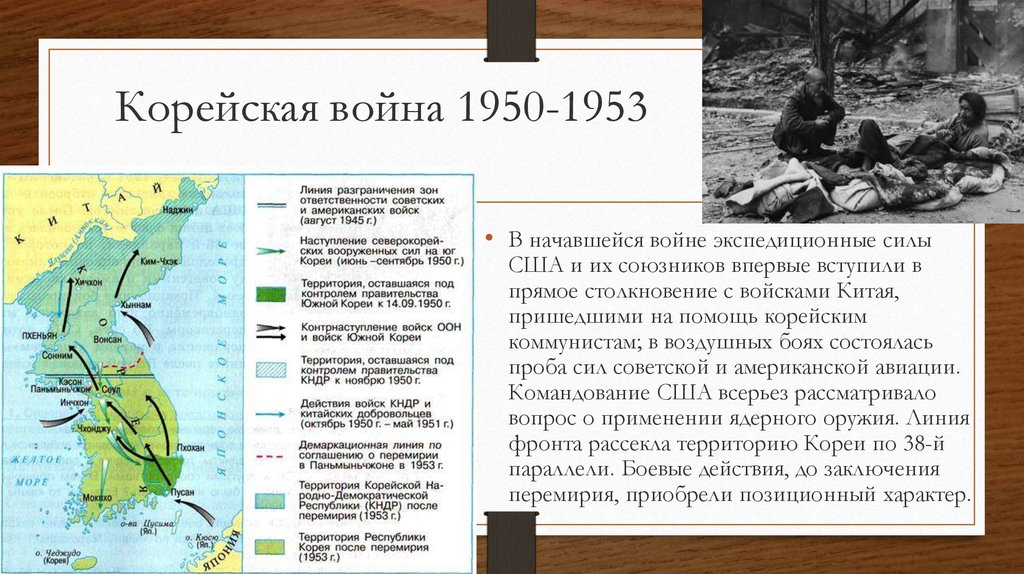 Первые не прибудут в значительных количествах до августа, и самые великодушные наблюдатели оставят южнокорейские войска в состоянии, который самые щедрые наблюдатели могут назвать лишь «боевым отступлением».
Первые не прибудут в значительных количествах до августа, и самые великодушные наблюдатели оставят южнокорейские войска в состоянии, который самые щедрые наблюдатели могут назвать лишь «боевым отступлением».
К августу и с помощью США южнокорейцы сформировали устойчивый оборонительный периметр в дальнем юго-восточном углу своей страны вокруг портового города Пусан. Силы ООН скованы за периметром Пусана — линией обороны в юго-восточном углу Корейского полуострова вокруг портового города Пусан. Войска ООН и Южной Кореи были вынуждены отступить в этот угол на ранних этапах Корейской войны. Американский генерал Дуглас Макартур сформулировал дерзкое наступление, основанное на нападении там, где северокорейцы меньше всего этого ожидали. Вместо того, чтобы пополнить запасы Пусана, он начал десантное вторжение в прибрежный город Инчхон, который находился на восточной стороне страны. Северокорейцы продвинулись слишком быстро, предположил семидесятилетний генерал, оставив большую часть своих сил на южной оконечности полуострова, а линии снабжения в центре страны уязвимыми для нападения. Если бы морские пехотинцы каким-то образом смогли преодолеть огромные приливы, которые привели к строительству подобных крепостям морских дамб вокруг Инчхона, войска США могли бы вбить клин в линии снабжения Северной Кореи и заманить в ловушку армию вторжения между Сеулом и Пусаном.
Если бы морские пехотинцы каким-то образом смогли преодолеть огромные приливы, которые привели к строительству подобных крепостям морских дамб вокруг Инчхона, войска США могли бы вбить клин в линии снабжения Северной Кореи и заманить в ловушку армию вторжения между Сеулом и Пусаном.
15 сентября 1950 года 12 000 морских пехотинцев застали врасплох и разгромили северокорейские войска во время Инчхонского вторжения. Десантный десант, предпринятый американскими войсками под командованием Дугласа Макартура во время Корейской войны. Вместо того, чтобы пополнить запасы войск ООН и Южной Кореи, удерживающихся в периметре Пусана, Макартур направил основную часть своих сил на захват Инчхона и продвижение на восток, перерезав линии снабжения Северной Кореи и зажав северокорейские войска между своими войсками и войсками в Пусане. и создал защищенный город в качестве безопасной зоны высадки войск США. Менее чем через две недели силы США и ООН, продвигаясь на восток и юг, освободили столицу Южной Кореи Сеул. Десятки тысяч северокорейских солдат смогли уйти на север до того, как силы Макартура, продвигающиеся теперь на север от Пусана, а также на юг и восток от Инчхона, смогли заманить в ловушку все силы. Тем не менее высадка в Инчхоне стала поворотным моментом на ранней стадии Корейской войны, поскольку половина северокорейцев сдалась, а другая половина бежала обратно в Северную Корею. Успех Макартура укрепил его и без того легендарный статус среди общественности США и побудил многих поддержать его ранее немыслимый план нападения на саму Северную Корею. После некоторых дебатов среди лидеров США и даже ООН Макартур получил разрешение преследовать бегущую коммунистическую армию в Северной Корее в надежде воссоединить Корею в одну некоммунистическую нацию.
Десятки тысяч северокорейских солдат смогли уйти на север до того, как силы Макартура, продвигающиеся теперь на север от Пусана, а также на юг и восток от Инчхона, смогли заманить в ловушку все силы. Тем не менее высадка в Инчхоне стала поворотным моментом на ранней стадии Корейской войны, поскольку половина северокорейцев сдалась, а другая половина бежала обратно в Северную Корею. Успех Макартура укрепил его и без того легендарный статус среди общественности США и побудил многих поддержать его ранее немыслимый план нападения на саму Северную Корею. После некоторых дебатов среди лидеров США и даже ООН Макартур получил разрешение преследовать бегущую коммунистическую армию в Северной Корее в надежде воссоединить Корею в одну некоммунистическую нацию.
Рисунок 9.19
Северокорейские войска продвигались на юг через 38-ю параллель, которая должна была стать временной разделительной линией. Они гнали войска ООН и Южной Кореи обратно в Пусан, пока американские войска не начали контрнаступление в Инчхоне, которое раскололо линии снабжения Северной Кореи и вынудило их отступить через 38-ю параллель.
Превращение войны с защиты своего южнокорейского союзника в нападение на коммунистическую Северную Корею было одновременно сложной задачей и деликатным политическим вопросом. Мао Цзэдун неоднократно предупреждал, что китайские войска вмешаются, если американские войска приблизятся к китайско-северокорейской границе. Макартур отклонил эти предупреждения как пропаганду и предсказал, что его войска оккупируют всю Северную Корею к Дню Благодарения. Поначалу казалось, что смелые действия Макартура снова будут оправданы, поскольку американские и южнокорейские войска продолжат наступление на осажденные северокорейские силы. К концу ноября северокорейцы были отведены на оборонительные позиции у границы с Китаем.
Рисунок 9.20
Войска США участвовали в уличных боях во время освобождения Сеула в сентябре 1950 года. Во время войны город несколько раз переходил из рук в руки, что привело к большому количеству жертв среди гражданского населения.
Оценка намерений Китая генералом Макартуром оказалась столь же недальновидной, как и более раннее убеждение Ким Ир Сена в том, что Соединенные Штаты не будут посылать войска в Корею. 25 ноября несколько сотен тысяч китайских солдат перешли границу Северной Кореи и вынудили войска США и Южной Кореи отступить на юг. Быстрое завоевание войск США, как и их северокорейского врага в первый месяц войны, означало, что линии снабжения США были растянуты и уязвимы для контратаки Китая. К Рождеству 1950 января китайские войска вытеснили американские и южнокорейские войска из Северной Кореи. К январю 1951 года северокорейцы отвоевали Сеул, и казалось, что китайцы и северокорейцы могут отбросить силы ООН обратно в Пусан.
25 ноября несколько сотен тысяч китайских солдат перешли границу Северной Кореи и вынудили войска США и Южной Кореи отступить на юг. Быстрое завоевание войск США, как и их северокорейского врага в первый месяц войны, означало, что линии снабжения США были растянуты и уязвимы для контратаки Китая. К Рождеству 1950 января китайские войска вытеснили американские и южнокорейские войска из Северной Кореи. К январю 1951 года северокорейцы отвоевали Сеул, и казалось, что китайцы и северокорейцы могут отбросить силы ООН обратно в Пусан.
Силам США и Южной Кореи удалось остановить продвижение корейцев; однако вскоре возникла тупиковая ситуация, когда две армии окопались, наступая и отступая на узкой полосе земли около 38-й параллели. Эта ситуация глубоко расстроила генерала Макартура, который предложил Соединенным Штатам использовать свой арсенал атомных бомб и даже призвал президента Трумэна распространить войну на Китай. Макартур также хотел помочь силам изгнанного китайского националиста Чан Кайши, если они согласятся атаковать китайские коммунистические войска. Трумэн признал, что китайцы будут рассматривать любое вторжение с Тайваня, поддерживаемого США, как равносильное объявлению США войны их стране. Вместо этого президент увеличил численность войск и начал контрнаступление в Корее. Мэтью Риджуэй, командующий 8-й армией в Корейской войне, руководивший успешным контрнаступлением на северокорейские позиции зимой 19-го.50–51. Риджуэй сменил Дугласа Макартура на посту командующего войсками США после того, как последний был смещен президентом Трумэном в апреле 1951 года. Он принял на себя командование этой контратакой и быстро восстановил контроль над Сеулом. К весне северокорейцы были вынуждены отступить за 38-ю параллель. Южная Корея снова оказалась в безопасности, Трумэн стремился к перемирию и возвращению к довоенному статус-кво разделенной Кореи. Макартур считал планы Трумэна трусливыми и равносильными победе коммунистов. В результате он молчаливо выступил против мирного плана президента, отправив сообщение китайцам с требованием безоговорочной капитуляции.
Трумэн признал, что китайцы будут рассматривать любое вторжение с Тайваня, поддерживаемого США, как равносильное объявлению США войны их стране. Вместо этого президент увеличил численность войск и начал контрнаступление в Корее. Мэтью Риджуэй, командующий 8-й армией в Корейской войне, руководивший успешным контрнаступлением на северокорейские позиции зимой 19-го.50–51. Риджуэй сменил Дугласа Макартура на посту командующего войсками США после того, как последний был смещен президентом Трумэном в апреле 1951 года. Он принял на себя командование этой контратакой и быстро восстановил контроль над Сеулом. К весне северокорейцы были вынуждены отступить за 38-ю параллель. Южная Корея снова оказалась в безопасности, Трумэн стремился к перемирию и возвращению к довоенному статус-кво разделенной Кореи. Макартур считал планы Трумэна трусливыми и равносильными победе коммунистов. В результате он молчаливо выступил против мирного плана президента, отправив сообщение китайцам с требованием безоговорочной капитуляции. Сообщение Макартура намекнуло, что американские войска могут вторгнуться в Китай и даже применить ядерное оружие, если они откажутся от его предложения.
Сообщение Макартура намекнуло, что американские войска могут вторгнуться в Китай и даже применить ядерное оружие, если они откажутся от его предложения.
Тупик к перемирию
Трумэн считал, что действия Макартура не только нарушили конституционный принцип гражданского контроля над вооруженными силами, но и были не чем иным, как изменой, поскольку они угрожали разжечь войну, которую он надеялся положить конец. Генерал Омар Брэдли считал, что нападение на Китай будет «не той войной, не в том месте, не в то время и не с тем врагом». Самая большая опасность, по мнению Трумэна, заключалась в том, что нападение на китайцев приведет к советской интервенции. Две страны были ведущими коммунистическими державами в мире и заключили пакт о взаимопомощи. В результате Трумэн и его советники опасались, что несанкционированные комментарии Макартура могут привести Америку к Третьей мировой войне. Однако политика заставила Трумэна действовать осторожно против своего мошеннического генерала. Макартура по-прежнему считали героем и военным гением, в то время как число одобрений Трумэна колебалось около 30 процентов. Политики-республиканцы одержали победы, связав президента с недавним подъемом коммунистов в Азии.
Макартура по-прежнему считали героем и военным гением, в то время как число одобрений Трумэна колебалось около 30 процентов. Политики-республиканцы одержали победы, связав президента с недавним подъемом коммунистов в Азии.
Рис. 9.21
Фотограф сопоставляет уставшего от войны корейца с ребенком на фоне американского танка. Война была особенно тяжелой для мирного населения.
По мере приближения выборов в конгресс 1950 года все больше и больше американцев считали Трумэна и других демократов «мягкими» по отношению к коммунизму. На этих выборах республиканцы глубоко проникли в ранее твердое демократическое большинство, поскольку разочарованный электорат задавался вопросом, почему самая могущественная нация в мире не может одержать победу над «отсталой» нацией, такой как Северная Корея. Выражения расовых предрассудков в отношении азиатов, ставшие обычным явлением во время Второй мировой войны, вернулись в виде призывов к применению атомного оружия против гражданского населения. Другие утверждали, что федеральное правительство кишит коммунистами. Почему еще, спрашивали они, великий генерал Макартур не может выступать против других коммунистических сил? Каждый день продолжавшейся войны, казалось, подтверждал худшее из этих обвинений — вооруженные силы США наносили удар в спину своим собственным правительством и главнокомандующим.
Другие утверждали, что федеральное правительство кишит коммунистами. Почему еще, спрашивали они, великий генерал Макартур не может выступать против других коммунистических сил? Каждый день продолжавшейся войны, казалось, подтверждал худшее из этих обвинений — вооруженные силы США наносили удар в спину своим собственным правительством и главнокомандующим.
Настойчивость Макартура в отношении тотальной войны в Азии перешла от частных бесед и секретных сообщений к сообщениям почти неповиновения в американских газетах. Популярный или нет, но президент Трумэн признал, что действия Макартура были одновременно непокорными и потенциально опасными. Генерал, который писал свои собственные приказы, нарушил священный американский принцип гражданского контроля над вооруженными силами. По этой причине Объединенный комитет начальников штабов поддержал решение президента освободить Макартура от командования. Многие американцы с гневом отреагировали на то, что популярный генерал был так бесславно смещен. Опросы общественного мнения показали, что подавляющее большинство американцев поддержало Макартура, в то время как рейтинги одобрения Трумэна достигли новых глубин. Генерал вернулся с триумфом, путешествуя по Восточному побережью, как герой-завоеватель, в сопровождении марширующих оркестров и парадов телеграфной ленты. В эмоциональном обращении, которое заставило плакать даже его недоброжелателей, старый генерал поблагодарил американский народ за честь служить ему в последних трех войнах. «Старые солдаты никогда не умирают, — заключил он, — они просто увядают».
Опросы общественного мнения показали, что подавляющее большинство американцев поддержало Макартура, в то время как рейтинги одобрения Трумэна достигли новых глубин. Генерал вернулся с триумфом, путешествуя по Восточному побережью, как герой-завоеватель, в сопровождении марширующих оркестров и парадов телеграфной ленты. В эмоциональном обращении, которое заставило плакать даже его недоброжелателей, старый генерал поблагодарил американский народ за честь служить ему в последних трех войнах. «Старые солдаты никогда не умирают, — заключил он, — они просто увядают».
Трумэн мудро избегал любых публичных заявлений и позволил Макартуру насладиться его, возможно, давно назревшей похвалой за его десятилетия военного руководства. Только позже Трумэн объяснил свое решение заменить Макартура Риджуэем, подробно объяснив Конгрессу, как Макартур стремился к эскалации войны. Аргумент Трумэна продемонстрировал мудрость ограниченной войны, и Конгресс ответил заявлением, в котором поблагодарил Макартура за его службу, но согласился с решением президента. В течение нескольких недель пресса и общественность США продолжали обсуждать этот вопрос, и большинство также согласилось с тем, что любое распространение Корейской войны за пределы Корейского полуострова было бы трагической ошибкой. Публичный имидж президента Трумэна был, по крайней мере, частично восстановлен, в то время как сторонники вторжения Макартура исчезли.
В течение нескольких недель пресса и общественность США продолжали обсуждать этот вопрос, и большинство также согласилось с тем, что любое распространение Корейской войны за пределы Корейского полуострова было бы трагической ошибкой. Публичный имидж президента Трумэна был, по крайней мере, частично восстановлен, в то время как сторонники вторжения Макартура исчезли.
Рисунок 9.22
Споры по поводу обмена пленными и репатриации привели к тому, что война продолжилась в 1953 году. На этой фотографии показана палатка, в которой размещались американские военнопленные, прежде чем их снова приветствовали в лагере.
Организация Объединенных Наций пыталась заключить перемирие в течение следующих двух с половиной лет, но переговоры зашли в тупик из-за трех основных противоречий. Первым было расположение границы между Северной и Южной Кореей. Во-вторых, ООН хотела создать демилитаризованную зону, которая препятствовала бы будущим вторжениям, положение, которое также препятствовало перспективам последующего воссоединения Кореи. Наконец, Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы у китайских и северокорейских военнопленных был выбор: вернуться в страны, которым они служили, или остаться в поддерживаемой Западом Южной Корее.
Наконец, Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы у китайских и северокорейских военнопленных был выбор: вернуться в страны, которым они служили, или остаться в поддерживаемой Западом Южной Корее.
Этот последний пункт был особенно важен для Трумэна как по гуманитарным, так и по политическим причинам. Почти половина из более чем 100 000 северокорейских и китайских заключенных изъявили желание жить на Тайване или в Южной Корее. Трумэн считал, что условия жизни на Тайване и в Южной Корее были значительно лучше, и также предсказывал, что мир воспримет отказ от Северной Кореи и Китая их собственными солдатами как мощный сигнал о превосходстве поддерживаемых США Тайваня и Южной Кореи. По этой причине китайцы и северокорейцы отказывались от условий мира до 19 июля.53. К этому времени герой Второй мировой войны Дуайт Д. Эйзенхауэр — пятизвездный генерал и верховный главнокомандующий союзными войсками во Второй мировой войне. После семи лет избегания политики Эйзенхауэр принял кандидатуру от республиканцев и победил Адлая Стивенсона на президентских выборах 1952 года.
Бывший Верховный главнокомандующий союзными войсками одобрил договор, который лишь предусматривал прекращение огня и вывод американских войск. Трумэн был, по крайней мере, частично оправдан, поскольку половина военнопленных-коммунистов предпочла остаться в Корее. Однако перемирие, по сути, продемонстрировало бесперспективность последних трех лет боев. Линия возле 38-й параллели стала южной границей между коммунистической Северной Кореей и некоммунистическим Югом. Обе стороны имеют крупные вооруженные силы вдоль общей границы и не подписали никаких договоров. На самом деле, технически обе страны до сих пор находятся в состоянии войны друг с другом, что является одним из многих долговременных последствий глобальной холодной войны.
Война нанесла невероятный урон людям, живущим по обе стороны Корейского полуострова. Войска США сбросили 650 000 тонн взрывчатки на Северную и Южную Корею, следуя стратегии «выжженной земли», разработанной во время Тихоокеанской кампании Второй мировой войны, но теперь примененной на полуострове, где проживает 20 миллионов корейцев. Напалм Невероятно легковоспламеняющееся вещество, образующееся при превращении бензина в желеобразную форму, которую затем смешивают с другими зажигательными веществами. а бомбардировки США уничтожили более тысячи деревень и почти уничтожили все сельскохозяйственное производство обеих стран, преднамеренно нанеся удары по ирригационным системам. Эти атаки действительно перерезали пути снабжения и лишили вражеские войска возможности жить за счет земли, но только после того, как была уничтожена способность крестьян аналогичным образом обеспечивать себя. По оценкам, 4 миллиона корейцев погибли. Голод в большей степени, чем оружие всех армий вместе взятых, стал причиной опустошительных потерь, сокративших население Северной и Южной Кореи на 10 процентов за четыре года. Ни одна война в США никогда не уносила жизни такой большой части гражданского населения страны. Кроме того, для 35 000 американских солдат, погибших и более 100 000 раненых, война в Корее была столь же разрушительной.
Напалм Невероятно легковоспламеняющееся вещество, образующееся при превращении бензина в желеобразную форму, которую затем смешивают с другими зажигательными веществами. а бомбардировки США уничтожили более тысячи деревень и почти уничтожили все сельскохозяйственное производство обеих стран, преднамеренно нанеся удары по ирригационным системам. Эти атаки действительно перерезали пути снабжения и лишили вражеские войска возможности жить за счет земли, но только после того, как была уничтожена способность крестьян аналогичным образом обеспечивать себя. По оценкам, 4 миллиона корейцев погибли. Голод в большей степени, чем оружие всех армий вместе взятых, стал причиной опустошительных потерь, сокративших население Северной и Южной Кореи на 10 процентов за четыре года. Ни одна война в США никогда не уносила жизни такой большой части гражданского населения страны. Кроме того, для 35 000 американских солдат, погибших и более 100 000 раненых, война в Корее была столь же разрушительной.
Эйзенхауэр и выборы 1952 года
Пришедшая из-за спины Трумэна победа в 1948 году казалась маловероятной, поскольку приближались президентские выборы 1952 года. Его рейтинги одобрения упали ниже 30 процентов во время Корейской войны, которую все чаще называли «войной Трумэна». Соединенные Штаты потратят 21 миллион долларов на борьбу с армиями Северной Кореи и Китая, и к 1951 году стало ясно, что это не приведет к быстрой и решительной победе, на которую рассчитывали американцы. В результате Трумэн отказался баллотироваться на второй срок, и демократы выдвинули Адлая Стивенсона губернатором штата Иллинойс, который обеспечил выдвижение Демократической партии на пост президента в 1919 году.52 и 1956. Стивенсон проиграл оба выбора Эйзенхауэру. В 1961 г. президент Кеннеди назначил Стивенсона послом США в ООН, где он служил до своей смерти в 1965 г. на их съезде в Чикаго. Стивенсон был бывшим поверенным и губернатором Иллинойса и был уважаемым членом партии. Однако его репутация меркнет по сравнению с его оппонентом-республиканцем, бывшим верховным главнокомандующим союзников Дуайтом Д. Эйзенхауэром.
Его рейтинги одобрения упали ниже 30 процентов во время Корейской войны, которую все чаще называли «войной Трумэна». Соединенные Штаты потратят 21 миллион долларов на борьбу с армиями Северной Кореи и Китая, и к 1951 году стало ясно, что это не приведет к быстрой и решительной победе, на которую рассчитывали американцы. В результате Трумэн отказался баллотироваться на второй срок, и демократы выдвинули Адлая Стивенсона губернатором штата Иллинойс, который обеспечил выдвижение Демократической партии на пост президента в 1919 году.52 и 1956. Стивенсон проиграл оба выбора Эйзенхауэру. В 1961 г. президент Кеннеди назначил Стивенсона послом США в ООН, где он служил до своей смерти в 1965 г. на их съезде в Чикаго. Стивенсон был бывшим поверенным и губернатором Иллинойса и был уважаемым членом партии. Однако его репутация меркнет по сравнению с его оппонентом-республиканцем, бывшим верховным главнокомандующим союзников Дуайтом Д. Эйзенхауэром.
Эйзенхауэр никогда не был членом ни Республиканской, ни Демократической партий. Фактически, он даже не голосовал в течение двух десятилетий. Тем не менее из-за его огромной популярности лидеры обеих партий пытались убедить бывшего верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе бежать под их знаменами. Трумэн и Эйзенхауэр разделяли взаимное восхищение и схожие политические взгляды на международные дела; однако Эйзенхауэр был глубоко консервативен, когда дело касалось внутренней политики. Он выступал против любого расширения инициатив Нового курса и рассматривал гражданские права как проблему, которую федеральному правительству следует избегать. В результате предложение республиканцев было единственным, которому он уделил серьезное внимание.
Фактически, он даже не голосовал в течение двух десятилетий. Тем не менее из-за его огромной популярности лидеры обеих партий пытались убедить бывшего верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе бежать под их знаменами. Трумэн и Эйзенхауэр разделяли взаимное восхищение и схожие политические взгляды на международные дела; однако Эйзенхауэр был глубоко консервативен, когда дело касалось внутренней политики. Он выступал против любого расширения инициатив Нового курса и рассматривал гражданские права как проблему, которую федеральному правительству следует избегать. В результате предложение республиканцев было единственным, которому он уделил серьезное внимание.
Стивенсон и Эйзенхауэр имели схожие политические взгляды. Ни один из них не поддерживал обширные государственные программы, такие как государственное жилье, и оба рассматривали гражданские права как вопрос, который лучше оставить на усмотрение отдельных государств, и были ярыми воинами холодной войны, которые поддерживали сдерживание коммунизма, ядерное сдерживание и сильную армию. Оба стремились положить конец войне в Корее и сократить расходы на оборону, но согласились с тем, что нация должна быть готова противостоять коммунистической экспансии по всему миру. Стивенсон и демократы избегали заявлений о гражданских правах, подобных тем, которые привели к «диксикратскому отделению» их южных делегатов на 19-м совещании.48 Демократический съезд. По иронии судьбы, уклонение Стивенсона от гражданских прав обеспечило ему голосование на Глубоком Юге, но мало помогло его электоральным перспективам во Флориде, Техасе, Вирджинии и Теннесси, которые, как и остальная часть страны, выбрали героя войны Эйзенхауэра.
Оба стремились положить конец войне в Корее и сократить расходы на оборону, но согласились с тем, что нация должна быть готова противостоять коммунистической экспансии по всему миру. Стивенсон и демократы избегали заявлений о гражданских правах, подобных тем, которые привели к «диксикратскому отделению» их южных делегатов на 19-м совещании.48 Демократический съезд. По иронии судьбы, уклонение Стивенсона от гражданских прав обеспечило ему голосование на Глубоком Юге, но мало помогло его электоральным перспективам во Флориде, Техасе, Вирджинии и Теннесси, которые, как и остальная часть страны, выбрали героя войны Эйзенхауэра.
Рисунок 9.23
Дуайта Эйзенхауэра во время его президентской кампании приветствовали большие толпы, такие как эта восторженная толпа в Балтиморе.
Поскольку оба кандидата придерживались схожих взглядов по большинству основных вопросов, выборы превратились в соревнование общественного мнения о личности самих кандидатов. Учитывая и без того высокое общественное одобрение Эйзенхауэра, руководители республиканской кампании использовали образ героя войны и противопоставляли «Айка» богатому и интеллектуальному Стивенсону. Напарник Эйзенхауэра Ричард Никсон Проницательный политик и кандидат на пост вице-президента при Эйзенхауэре Ричард Никсон стремился преобразовать образ Республиканской партии из ее ассоциации с продвижением интересов бизнес-лидеров в защитника простого человека. Безжалостный в своих нападках на политических соперников, Никсон столь же искусно использовал популистский язык для обращения к массам — умение, которое катапультировало его в Белый дом в 19-м веке.68 президентские выборы. прославился своим энтузиазмом в преследовании предполагаемых подрывников в качестве члена комитета Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности. В 1950 году Никсон победил Хелен Гахаган Дуглас в жестокой сенаторской кампании в Калифорнии, в ходе которой Никсон обвинил Дуглас в том, что она коммунистка, которая «порозовела до нижнего белья».
Напарник Эйзенхауэра Ричард Никсон Проницательный политик и кандидат на пост вице-президента при Эйзенхауэре Ричард Никсон стремился преобразовать образ Республиканской партии из ее ассоциации с продвижением интересов бизнес-лидеров в защитника простого человека. Безжалостный в своих нападках на политических соперников, Никсон столь же искусно использовал популистский язык для обращения к массам — умение, которое катапультировало его в Белый дом в 19-м веке.68 президентские выборы. прославился своим энтузиазмом в преследовании предполагаемых подрывников в качестве члена комитета Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности. В 1950 году Никсон победил Хелен Гахаган Дуглас в жестокой сенаторской кампании в Калифорнии, в ходе которой Никсон обвинил Дуглас в том, что она коммунистка, которая «порозовела до нижнего белья».
Главный вклад Никсона в президентскую кампанию заключался в том, чтобы вызвать аналогичные сомнения относительно политической ориентации Стивенсона. Никсон был склонен «случайно» называть соперника своего напарника «Алджером» вместо Адлая. Он каждый раз поправлялся, но было ясно, что Никсон надеялся связать Стивенсона с недавно осужденным советским шпионом Элджером Хиссом. К драке присоединились и другие правые, поскольку Маккарти назвал последние два десятилетия правления демократов «двадцатью годами государственной измены». Эйзенхауэр находил эти атаки неприятными, но мало что делал, чтобы их остановить. И в то время как Стивенсон покупал время в теле- и радиопрограммах для произнесения длинных речей, Эйзенхауэр появлялся в тщательно срежиссированных телевизионных рекламных роликах. Эти краткие рекламные ролики предвосхищали современные рекламные кампании, показывая кандидата как отважного героя войны, любящего семьянина и надежного защитника рабочего класса. Они давали мало информации и чрезмерно упрощали сложные вопросы, но при этом были удивительно оптимистичными.
Никсон был склонен «случайно» называть соперника своего напарника «Алджером» вместо Адлая. Он каждый раз поправлялся, но было ясно, что Никсон надеялся связать Стивенсона с недавно осужденным советским шпионом Элджером Хиссом. К драке присоединились и другие правые, поскольку Маккарти назвал последние два десятилетия правления демократов «двадцатью годами государственной измены». Эйзенхауэр находил эти атаки неприятными, но мало что делал, чтобы их остановить. И в то время как Стивенсон покупал время в теле- и радиопрограммах для произнесения длинных речей, Эйзенхауэр появлялся в тщательно срежиссированных телевизионных рекламных роликах. Эти краткие рекламные ролики предвосхищали современные рекламные кампании, показывая кандидата как отважного героя войны, любящего семьянина и надежного защитника рабочего класса. Они давали мало информации и чрезмерно упрощали сложные вопросы, но при этом были удивительно оптимистичными.
Рисунок 9.24
Дуайт Эйзенхауэр победил на президентских выборах 1952 года, набрав более 80% голосов выборщиков. Бывший Верховный главнокомандующий союзниками даже выиграл несколько южных штатов, которые не голосовали за республиканцев с первых лет Реконструкции.
Бывший Верховный главнокомандующий союзниками даже выиграл несколько южных штатов, которые не голосовали за республиканцев с первых лет Реконструкции.
Стивенсон мало что мог сделать, чтобы противостоять атакам Никсона или сентиментальной рекламе Эйзенхауэра. Любое опровержение обвинений в симпатиях к коммунистам послужило бы только усилению вдохновленной Маккарти тактики его недоброжелателей путем дальнейшего связывания таких слов, как «коммунизм», с его собственным образом в общественном сознании. Телевизионной рекламе Эйзенхауэра, как и его обещанию лично посетить Корею, также было трудно противостоять. Эти стратегии в сочетании с огромной популярностью Эйзенхауэра объясняют, почему он получил более 55 процентов голосов избирателей. Однако когда выборы закончились, многие американцы поняли, что у них нет четкого представления о том, что на самом деле будет делать их новый президент, находясь у власти. Эйзенхауэр не дал ни намека на то, как его визит в Корею улучшит ситуацию, ни объяснил, что он имел в виду, когда обещал «почетное окончание» конфликта.
Еще большую проблему для некоторых политических обозревателей вызывало использование расплывчатых лозунгов, таких как «Мне нравится Айк», которые им казались более подходящими для рекламной кампании, чем для президентских выборов. Ведущий редактор газеты обвинил руководителей предвыборной кампании Эйзенхауэра в том, что они «продавали президента как зубную пасту». Однако лозунг оказался эффективным благодаря исключительно положительному общественному восприятию Эйзенхауэра. Бывший пятизвездочный генерал привел Соединенные Штаты к победе в Европе, и многие американцы были уверены, что он найдет способ одержать победу в Корее. Присутствие Эйзенхауэра в списке воодушевило всю Республиканскую партию, которая захватила контроль как в Сенате, так и в Палате представителей. Теперь республиканцы контролировали обе палаты Конгресса и пост президента впервые за более чем два десятилетия.
Обзор и критическое мышление
- Почему Соединенные Штаты решили вмешаться в дела Кореи? Была ли стратегия Макартура по направлению американских войск в Инчхон смелой или безрассудной стратегией? Какие еще военные варианты были у полководца?
- Почему президент Трумэн уволил генерала Макартура? Если бы у Трумэна был более высокий рейтинг одобрения, должен ли он был бы раньше произвести смену командующего? Почему так много американцев поддержали призыв Макартура распространить войну на Китай и что, по вашему мнению, могло бы произойти, если бы Соединенные Штаты следовали этой стратегии?
- Почему американцы были так разочарованы Трумэном, что он даже не баллотировался на переизбрание в 1952 году? Объясните причину победы Эйзенхауэра в 1952 году.

Признание ошибок США может облегчить отношения между Японией и Южной Кореей
Поиск экспертов, проектов, публикаций, курсов и многого другого.
Расширенный поиск
Поиск USIP.org
Тип контента Публикация в блогеЦентрКурсЮжный Суданский мирный процесс Цифровая библиотека ЭлементСобытиеВнешние новостиСтипендияТема обсужденияGC — Academy LandingGC — Продвижение курсаGC — EventGlossary TermGrantINPROL PublicationLanding PageNewsOnline CoursePagePersonProjectsPublicationPublic Education PageLibrary ResourceSite Notification
страны Африка-Ангола-Бенин-Ботсвана-Буркина-Фасо-Бурунди-Камерун-Кабо-Верде-Центральноафриканская Республика-Чад-Коморские Острова-Кот-д’Ивуар-Демократическая Республика Конго-Джибути-Экваториальная Гвинея-Эритрея-Эфиопия-Габон-Гана- Гвинея-Гвинея-Бисау-Кения-Лесото-Либерия-Мадагаскар-Малави-Мали-Мавритания-Маврикий-Мозамбик-Намибия-Нигер-Нигерия-Руанда-Сан-Томе и Принсипи-Сенегал-Сейшельские острова-Сьерра-Леоне-Сомали-Южная Африка-Юг Судан-Судан-Свазиленд-Танзания-Гамбия-Республика Конго-Того-Уганда-Замбия-ЗимбабвеАмерика-Антигуа и Барбуда-Аргентина-Багамы-Барбадос-Белиз-Боливия-Бразилия-Канада-Чили-Колумбия-Коста-Рика- Куба-Доминика-Доминиканская Республика-Эквадор-Сальвадор-Гренада-Гватемала-Гайана-Гаити-Гондурас-Ямайка-Мексика-Никарагуа-Панама-Парагвай-Перу-Сент-Китс и Невис-Сент-Люсия-Сент-Винсент и Гренадины-Тринидад и Тобаго-США-Уругвай-ВенесуэлаАзия-Афганистан-Австралия-Бангладеш-Бутан-Бруней-Бирма-Камбоджа-Китай-Фиджи-Индия-Индонезия-Япония-Казахстан-Кирибати-Кыргызстан Стан-Лаос-Малайзия-Мальдивы-Маршалловы Острова-Микронезия-Монголия-Науру-Непал-Новая Зеландия-Северная Корея-Пакистан-Палау-Новая Гвинея-Филиппины-Самоа-Сингапур-Соломоновы Острова-Южная Корея-Шри-Ланка-Суринам- Таджикистан-Таиланд-Тимор-Лешти-Тонга-Туркменистан-Тувалу-Узбекистан-Вануату-ВьетнамЕвропа-Албания-Андорра-Армения-Австрия-Азербайджан-Беларусь-Бельгия-Босния-Герцеговина-Болгария-Хорватия-Кипр-Чехия-Дания-Эстония- Финляндия-Франция-Грузия-Германия-Греция-Гренландия-Святой Престол (Ватикан)-Венгрия-Исландия-Ирландия-Италия-Косово-Латвия-Лихтенштейн-Литва-Люксембург-Македония-Мальта-Молдова-Монако-Черногория-Нидерланды-Норвегия -Польша-Португалия-Румыния-Россия-Сан-Марино-Сербия-Словакия-Словения-Испания-Швеция-Швейцария-Турция-Украина-Великобритания Ближний Восток и Северная Африка-Алжир-Бахрейн-Египет-Иран-Ирак-Израиль и Палестинские территории -Иордания-Кувейт-Ливан-Ливия-Марокко-Оман-Катар-Саудовская Аравия-Сирия-Тунис-Объединенные Арабские Эмираты-Йемен
проблемных областей Гражданско-военные отношенияЭкономикаАнализ и предотвращение конфликтовДемократия и управлениеОкружающая средаОбразование и обучениеНасилие на выборахХрупкость и устойчивостьГендерГлобальное здоровьеГлобальная политикаПрава человекаПравосудие, безопасность и верховенство законаПосредничество, переговоры и диалогНенасильственные действияМирные процессыПримирениеРелигияНасильственный экстремизмМолодежь
СортироватьАктуальность
Дата
Нет содержимого, соответствующего критериям фильтрации.

Дом ▶ Публикации
С 1945 года интересы безопасности США имеют ограниченные возможности для примирения между соседями в Северо-Восточной Азии.
понедельник, 22 августа 2022 г. / Автор: Сайрус Джин
Тип публикации: Анализ и комментарии
Поделиться
Распечатать страницу
История лежит в основе холодных отношений между Южной Кореей и Японией. Не только история японского империализма, но и история стратегических интересов США с 1945 года. Принятие решений в США, вытекающее из таких интересов — сначала в контексте ведения холодной войны, а теперь определяемое конкуренцией США с Китаем — часто усугубила долгосрочные отношения между Южной Кореей и Японией в поисках целесообразных решений и ограничила возможности и возможности для примирения.
Если Соединенные Штаты надеются способствовать подлинному и устойчивому сближению между Южной Кореей и Японией и таким образом создать основу для более мирного, стабильного и гармоничного Индо-Тихоокеанского региона, она должна понимать и признавать свою роль в увековечивании этих разногласий.
Исключительный мирный договор
г. В критический период после Второй мировой войны решение США исключить Корею из мирного договора с Японией не учитывало недовольство Кореи против Японии и вместо этого устанавливало рамки, в которых стратегические интересы США имели приоритет над разрешением плохой истории.
Когда Вторая мировая война закончилась, двойная военная оккупация США южной Кореи и Японии добавила остроты давним дискуссиям в Вашингтоне о том, как будет выглядеть будущее Восточной Азии в послевоенную эпоху. Официальные лица США изначально руководствовались идеалистическими целями продвижения либерального мира, включая разрешение на возмещение ущерба, которое могло бы признать тех, кто пострадал из-за действий Японии, и начали разрабатывать варианты возможного мирного договора с Японией, которые могли бы выполнить такие широкие задачи.
Официальные лица США изначально руководствовались идеалистическими целями продвижения либерального мира, включая разрешение на возмещение ущерба, которое могло бы признать тех, кто пострадал из-за действий Японии, и начали разрабатывать варианты возможного мирного договора с Японией, которые могли бы выполнить такие широкие задачи.
План был следующим: мирный договор полностью восстановит суверенитет Японии, положит конец оккупации Японии союзниками и удовлетворит дух устремлений союзников военного времени по достижению мира на основе справедливости. В идеале договор должен был бы сделать это, не потрошив послевоенное восстановление Японии, избегая ошибок карательного Версальского договора после Первой мировой войны. Договор также сигнализировал бы о трансформации Японии — после осторожного руководства США — из империалистической воинственной страны в демократического члена глобального сообщество наций.
Но по мере роста напряженности в отношениях с Советским Союзом и усиления страха перед коммунизмом в годы после окончания Второй мировой войны главный императив внешней политики США изменился. Главной ценностью договора стало восстановление Японии в качестве стратегического актива в Тихом океане и суверенного союзника, а второстепенным преимуществом было решение вопроса о том, как Япония может урегулировать свое имперское прошлое. Договор будет функционировать как юридическое подтверждение усилий по реабилитации и использованию Японии в качестве ключевого звена в региональной сети безопасности США.
Главной ценностью договора стало восстановление Японии в качестве стратегического актива в Тихом океане и суверенного союзника, а второстепенным преимуществом было решение вопроса о том, как Япония может урегулировать свое имперское прошлое. Договор будет функционировать как юридическое подтверждение усилий по реабилитации и использованию Японии в качестве ключевого звена в региональной сети безопасности США.
Обращение к империалистическому прошлому Японии
Иметь дело с прошлым Японии было непростой задачей. Вопросы варьировались от территориальных споров от Курильских островов до Южно-Китайского моря, до компенсаций гражданам союзников, которые могли пострадать, живя под властью Японии, до самого вопроса о том, кто — в мире, который выглядел совсем не так, как тот перед войной — квалифицировался как «комбатант союзников» и, таким образом, заслужил репарации от Японии.
Меняющаяся группа американских дипломатов и сотрудников годами боролась с этими вопросами, в то время как страны, которые могли выиграть или проиграть от мирного договора, лоббировали Вашингтон. Договор, который в конечном итоге будет подписан в Сан-Франциско 19 сентября.51 — таким образом, является многосторонним документом, в котором должен решаться вопрос о том, кто может быть его стороной.
Договор, который в конечном итоге будет подписан в Сан-Франциско 19 сентября.51 — таким образом, является многосторонним документом, в котором должен решаться вопрос о том, кто может быть его стороной.
Ключевой вопрос заключался в том, можно ли признать новые независимые государства, бывшие колониями во время Второй мировой войны, за их недовольство во время войны. Официальные лица США одобрили включение бывших западных колоний, таких как Филиппины, Вьетнам и Индонезия, в Сан-Францисский мирный договор, считая их участие ценным для повышения легитимности договора. Нормализация отношений между новыми независимыми государствами и Японией имела решающее значение для региональной стабильности, особенно когда такие страны, как Индия, отказывались участвовать, поэтому было важно, чтобы как можно больше азиатских государств подписали договор.
Южная Корея также заявила, что заслуживает быть представленной в договоре, указывая на историю сопротивления Кореи японскому колониальному правлению. В частности, правительство Ли Сын Мана добивалось от Японии репараций, признания того, что острова Такэсима/Токто будут находиться под юрисдикцией Южной Кореи, и, что наиболее важно, участия в международном договоре, который формализовал бы признание Японией своего имперского поведения. Важно отметить, что правительство Южной Кореи не требовало возмещения ущерба корейским женщинам для утех, принужденным к сексуальному рабству, которое тогда все еще было запретной темой в корейском обществе, и вместо этого рассматривало репарации как способ подпитывать послевоенное восстановление Кореи.
В частности, правительство Ли Сын Мана добивалось от Японии репараций, признания того, что острова Такэсима/Токто будут находиться под юрисдикцией Южной Кореи, и, что наиболее важно, участия в международном договоре, который формализовал бы признание Японией своего имперского поведения. Важно отметить, что правительство Южной Кореи не требовало возмещения ущерба корейским женщинам для утех, принужденным к сексуальному рабству, которое тогда все еще было запретной темой в корейском обществе, и вместо этого рассматривало репарации как способ подпитывать послевоенное восстановление Кореи.
Приоритеты США
Быстро материализовались осложнения. Соединенные Штаты считали восстановление Японии своим приоритетом в качестве стратегического актива и стремились минимизировать экономическое бремя Японии от репараций, связанных с договором. Кроме того, до Корейской войны правительство США обычно считало Корейский полуостров менее важным. Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты прямо отклонили петиции Временного правительства Кореи и других корейских организаций об участии в первых конференциях Организации Объединенных Наций.
Иллюстрируя приоритеты США, оккупация армией США южной Кореи характеризовалась отсутствием на местах каких-либо американцев, которые знали бы или сочувствовали их местному контексту; Глава американской оккупации часто жаловался, что корейцы были «плохо обученными и малообразованными выходцами с Востока… с которыми почти невозможно договориться».
До июня 1950 года официальные лица США в регионе время от времени чувствовали разочарование из-за лоббирования Южной Кореи и считали корейских представителей беспокойными и вызывающе националистическими по сравнению с японцами, которых они считали относительно склонными к сотрудничеству.
И хотя ранний проект мирного договора Государственного департамента действительно включал Корею в качестве участника, архивные документы показывают, что Соединенные Штаты оправдывали участие правительства Южной Кореи тем, что в противном случае оно «несомненно чувствовало бы себя вправе участвовать и было бы возмущено, если бы США это сделали». не одобрять его участия». Иными словами, включение Южной Кореи было мотивировано желанием избежать головной боли от возмущения Сеула, не обязательно в силу его претензий.
не одобрять его участия». Иными словами, включение Южной Кореи было мотивировано желанием избежать головной боли от возмущения Сеула, не обязательно в силу его претензий.
Официальные лица США особенно бились над тем, как оценить более долгую историю японского империализма в Корее. Записи в Национальном архиве США также содержат отчет Государственного департамента от 1949 года, в котором делается вывод о том, что «интересы Кореи в мирном урегулировании возникают в большей степени из последствий аннексии и сорокалетней эксплуатации, чем из самой войны». на критику корейских заявлений о том, что они выходят за рамки «Второй мировой войны», с которыми Соединенным Штатам было комфортно.
Логика быстрых решений
Начало войны в Корее в июне 1950 г. вызвало два противоречащих друг другу фактора в отношении участия Южной Кореи в Сан-Францисском договоре. Во-первых, это резко подняло стратегический авторитет Южной Кореи и убедило некоторых официальных лиц США в символических преимуществах появления южнокорейских представителей на международной арене. Проекты мирного договора в конце 1950 — начале 1951 года включали Южную Корею в качестве участника, признавая претензии Кореи к Японии.
Проекты мирного договора в конце 1950 — начале 1951 года включали Южную Корею в качестве участника, признавая претензии Кореи к Японии.
Но, во-вторых, война усилила опасения США по поводу скорейшей доработки договора. Япония по-прежнему оставалась главным стратегическим активом Соединенных Штатов. Мирный договор будет сочетаться с соглашением о взаимной безопасности с Японией на фоне усиливающегося давления США на Японию с целью перевооружения ее Сил самообороны, восстановления ранее подвергшихся чистке имперских японских офицеров для укомплектования этих вооруженных сил и частичного свертывания ранних усилий по искоренению японских лидеров военного времени из публичная жизнь. Ревизионистское крыло правящей Либерально-демократической партии Японии, которое не извиняется за имперское прошлое Японии, может проследить свою основу до решений США отказаться от своих амбиций по демилитаризации и демократизации. Геополитика, не обращаясь к сложной истории, изменила исчисление и имела непреходящие последствия.
Эта логика быстрых решений для максимизации преимуществ США в краткосрочной перспективе в конечном итоге привела к исключению Южной Кореи из Сан-Францисского мирного договора. Когда британские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что включение Южной Кореи, но за исключением Северной Кореи, может нарушить собственные коммерческие интересы Соединенного Королевства в отношениях с Китаем, Соединенные Штаты быстро согласились. Более того, Государственный департамент был готов отказаться от вмешательства Кореи. Япония уже активно лоббировала против участия Кореи, причем премьер-министр Сигеру Ёсида больше всего беспокоил претензии, на которые могли иметь право корейские граждане, проживающие в Японии.
Джон Фостер Даллес, будущий госсекретарь США и тогдашний главный дипломат по переговорам по договору, видел в корейских чиновниках чрезмерно националистически настроенных смутьянов, которые могли помешать тщательно спланированному договорному процессу.
Летом 1951 года посол Кореи в Соединенных Штатах пытался найти возможности для того, чтобы Южная Корея осталась участником договора, но неоднократно получал отказ. Архивные данные показывают, что окончательное предложение США заключалось только в том, что несколько южнокорейских официальных лиц могли присутствовать на конференции в качестве неофициальных гостей, а Государственный департамент помогал с бронированием их отелей.
Архивные данные показывают, что окончательное предложение США заключалось только в том, что несколько южнокорейских официальных лиц могли присутствовать на конференции в качестве неофициальных гостей, а Государственный департамент помогал с бронированием их отелей.
На тот момент США надеялись, что в конечном итоге Южная Корея и Япония смогут решить свои проблемы на двусторонней основе. В окне возможности, когда Соединенные Штаты могли оказать драматическое влияние на будущее отношений в Азии, страдания, которые корейцы могли испытать под японским контролем, не были признаны. Без сильного посредничества США Южной Корее и Японии потребовалось бы почти 15 лет, чтобы в конечном итоге нормализовать отношения в 1965 году, позволив историческим проблемам и вражде усугубиться.
Долгосрочные последствия
Решения США в 1951 году не были нелогичными с определенной точки зрения в то время, но обоснование, по которому Соединенные Штаты исключили Южную Корею из мирного договора, имело долгосрочные последствия и освещает рамки принятия стратегических решений США, которые сохраняются Cегодня.
На протяжении более 70 лет политика сменявших друг друга администраций США в отношении Северо-Восточной Азии видела исторические проблемы, из-за которых вражда между Южной Кореей и Японией была «их» проблемой, которая раздувалась, несмотря на усилия США по поощрению примирения.
Напротив, Соединенные Штаты часто вносили свой вклад в эти назревающие проблемы, используя свои стратегические императивы, чтобы заставить правительства Южной Кореи и Японии последовать их примеру. Перезагрузка отношений, такая как договор о нормализации 1965 года и соглашение о женщинах для утех 2015 года, хотя иногда публично преподносится Соединенными Штатами как попытка урегулировать историческую вражду, также продвигалась в духе укрепления стратегических интересов США. Эти перезагрузки впоследствии оказались ненадежными, несмотря на достижение краткосрочных и среднесрочных прорывов — первый из-за полного отсутствия участия общественности, а второй из-за того, что он не консультировался с отдельными жертвами и оставил впечатление, что это была политическая сделка. а не мировое соглашение.
а не мировое соглашение.
Любое сближение между Южной Кореей и Японией должно быть чем-то большим, чем соглашение между правительствами без популярного дискурса, даже если такие соглашения целесообразны в краткосрочной перспективе.
Признание прошлого
Соединенные Штаты могут помочь уменьшить политические издержки для южнокорейских и японских лидеров, признав свою историческую роль в приоритизации интересов безопасности за счет недовольства корейцев и прав жертв.
900:04 Официальное признание США того, что нынешнее состояние отношений между Южной Кореей и Японией частично обусловлено характером стратегических рамок США, возможно, может перенаправить часть вины, возложенной на Токио и Сеул. Кроме того, при участии США целостное исследование послевоенной истории может также высветить собственную неспособность правительства Южной Кореи рассмотреть претензии отдельных корейских жертв на переговорах 1951 и 1965 годов. Серия полуофициальных конференций с участием корейских, японских и американских ученых, посвященных изучению наследия послевоенных поселений, также может быть полезной для выпуска совместных публикаций, ориентированных на политику. Это могло бы помочь политикам начать с общей базы фактов для любых разговоров о примирении. В то время как некоторых в Соединенных Штатах может раздражать перспектива любого рода «извинений» за предыдущие действия США, наследие дипломатического принятия решений в Азии после Второй мировой войны может не обязательно быть острой темой в Соединенных Штатах, которая вызывает внутренняя реакция на правительство США. И такой подход с гораздо большей вероятностью приведет к прочному общественному примирению, чем просто надежда на то, что Китай и Северная Корея могут стать общей внешней угрозой, объединяющей Южную Корею и Японию.
Это могло бы помочь политикам начать с общей базы фактов для любых разговоров о примирении. В то время как некоторых в Соединенных Штатах может раздражать перспектива любого рода «извинений» за предыдущие действия США, наследие дипломатического принятия решений в Азии после Второй мировой войны может не обязательно быть острой темой в Соединенных Штатах, которая вызывает внутренняя реакция на правительство США. И такой подход с гораздо большей вероятностью приведет к прочному общественному примирению, чем просто надежда на то, что Китай и Северная Корея могут стать общей внешней угрозой, объединяющей Южную Корею и Японию.
Наследие стратегических решений США при создании архитектуры глобальной безопасности оставило неизгладимый след в отношениях в Северо-Восточной Азии. Но Япония и Южная Корея не должны быть обречены на вечную напряженность из-за их неразрешенной истории. Раскрытие и признание предыдущих решений США может стать важным первым шагом, подтверждающим вину Японии за ее правонарушения во Второй мировой войне и одновременно снимающим обвинения в том, что японская непримиримость, корейский национализм или какая-то комбинация этих двух факторов привели к нынешнему положению дел. . Скорее, интересы безопасности США неизбежно способствовали ограничению возможностей и средств исторического примирения с 19 века.45.
. Скорее, интересы безопасности США неизбежно способствовали ограничению возможностей и средств исторического примирения с 19 века.45.
Сайрус Джин является докторантом истории в Чикагском университете, где он исследует вооруженные силы США, Восточную Азию и послевоенное создание архитектуры глобальной безопасности США.
Связанные публикации
Отношения между Японией и Южной Кореей зашли в тупик. Официальные лица обеих сторон признали необходимость улучшения отношений. Из-за резких разногласий по поводу компенсации за исторические проблемы принуждения сексуальных рабынь (так называемых женщин для утех) и принудительного труда, а также современных проблем торговли, отношениям нужен переломный момент, чтобы изменить курс. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал «переосмыслить» отношения. Практика разрешения конфликтов за пределами Восточной Азии может помочь нам мыслить нестандартно.
Тип: Анализ и комментарии
Примирение
Еще до вступления в должность в мае 2022 года президент Южной Кореи Юн Сук Ёль ясно заявил о своем стремлении к более гладким формальным отношениям между Сеулом и Токио. Застрявшие в ряде переплетенных и затяжных споров, Южная Корея и Япония находились в дипломатическом застое задолго до того, как ограничения COVID-19 закрыли все. Недавние усилия по миростроительству обнадеживают, поскольку Япония и Соединенные Штаты публично приветствуют инициативы Южной Кореи как ключевые для планов регионального объединения перед лицом провокаций Северной Кореи и агрессивного поведения Китая.
Застрявшие в ряде переплетенных и затяжных споров, Южная Корея и Япония находились в дипломатическом застое задолго до того, как ограничения COVID-19 закрыли все. Недавние усилия по миростроительству обнадеживают, поскольку Япония и Соединенные Штаты публично приветствуют инициативы Южной Кореи как ключевые для планов регионального объединения перед лицом провокаций Северной Кореи и агрессивного поведения Китая.
Тип: Анализ и комментарии
мирные процессы; Примирение
Ветер политических перемен пронесся по Южной Корее в начале 2022 года. Юн Сук Ёль, консерватор и бывший генеральный прокурор, одержал победу на президентских выборах. Поскольку новый президент ищет новое направление для внешней политики Сеула, возможно, наиболее политически нагруженной и чувствительной частью его повестки дня является улучшение испорченных отношений Южной Кореи с ее бывшим колонизатором Японией. Улучшение отношений принесет пользу обеим странам, но их лидеры должны быть осторожны в том, как они будут улучшать отношения, если они хотят создать прочное чувство доброй воли. Им нужно будет прислушаться к диссидентским голосам, по-новому взглянуть на свою историю и убедить Соединенные Штаты сыграть продуктивную роль.
Улучшение отношений принесет пользу обеим странам, но их лидеры должны быть осторожны в том, как они будут улучшать отношения, если они хотят создать прочное чувство доброй воли. Им нужно будет прислушаться к диссидентским голосам, по-новому взглянуть на свою историю и убедить Соединенные Штаты сыграть продуктивную роль.
Тип: Анализ и комментарии
Примирение
В 1965 году Япония и Южная Корея подписали многочисленные договоры и соглашения по нормализации отношений, в том числе Договор об основных отношениях, восстанавливающий дипломатические отношения, и Соглашение о претензиях, регулирующее имущественные претензии между двумя странами и их гражданами. Эти соглашения не смогли устранить двустороннюю напряженность, возникшую из-за претензий корейцев, которые были подвергнуты принудительному труду имперской Японией во время Второй мировой войны. Некоторые стороны призвали к юридическому урегулированию на основе арбитражной оговорки в Соглашении о претензиях.
