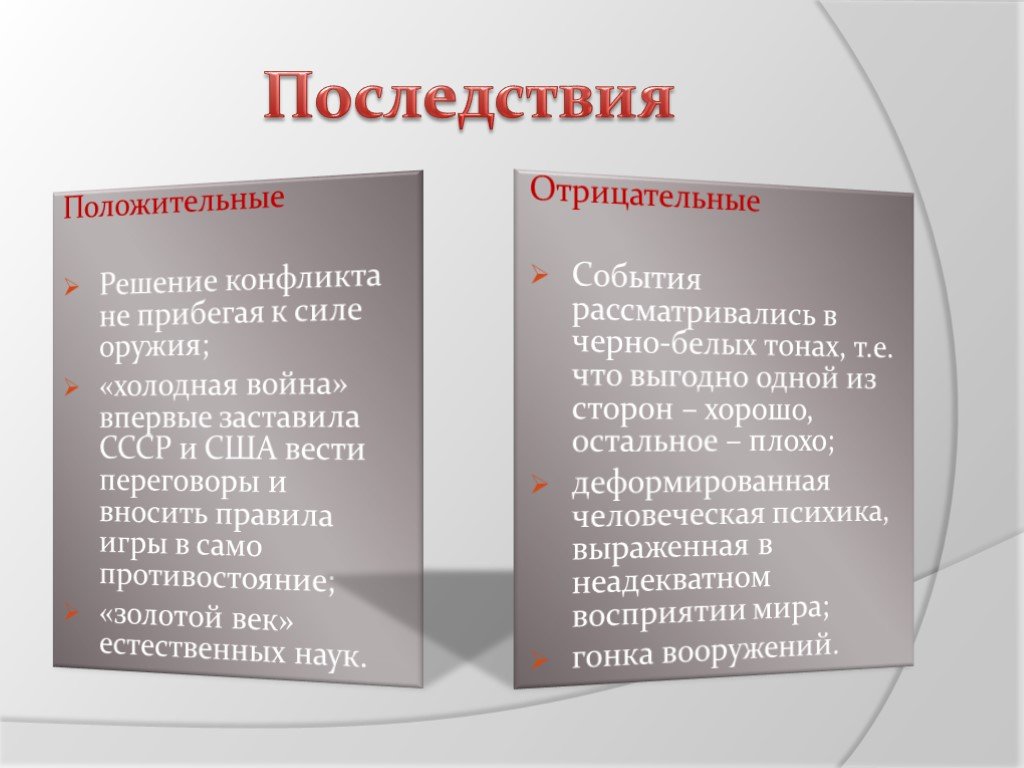Глобализация — Материалы Всемирного банка для учащихся «А знаешь ли ты… ?»
Что это значит?
Глобализация — это усиливающаяся интеграция экономик и обществ во всем мире.
Глобализация — это неизбежное явление в истории человечества, заключающееся в том, что мир в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями становится более взаимосвязанным. Однако за последние десятилетия темпы этой глобальной интеграции стали гораздо более высокими и впечатляющими благодаря беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии, средства связи, наука, транспорт и промышленность.
Хотя глобализация ускоряет развитие человечества и является его следствием, она представляет собой непростой процесс, к которому нужно приспосабливаться и который создает серьезные проблемы и трудности. Такие быстрые темпы перемен могут принять угрожающий характер, и большинство стран пытаются их контролировать или управлять ими.
Почему это касается меня?
Глобализация стала причиной наиболее горячих споров последнего десятилетия.
Критикуя последствия глобализации, чаще всего люди ссылаются на экономическую интеграцию. Экономическая интеграция происходит тогда, когда страны смягчают такие ограничения, как тарифы на импорт, и делают свою экономику открытой для инвестиций и торговли с остальным миром. Критики глобализации отмечают, что неравенство в нынешней глобальной системе торговли негативно отражается на развивающихся странах в ущерб развитым странам.
Сторонники глобализации считают, что проведение политики открытой экономики в таких странах, как Вьетнам, Индия, Китай и Уганда, позволило в значительной степени сократить масштабы нищеты.
В ответ на это критики заявляют, что данный процесс привел к эксплуатации людей в развивающихся странах, серьезной дестабилизации и практически не принес пользы.
Для того, чтобы все страны могли получать выгоду от глобализации, международному сообществу следует продолжить работу по ликвидации диспропорций в международной торговле (сокращение субсидий фермерам и снижение торговых барьеров), которые отвечают интересам развитых стран, и созданию более справедливой системы.
Некоторым странам глобализация пошла на пользу:
- Китай. Реформы привели к невиданному снижению уровня нищеты. В период с 1978 по 1989 год численность сельских бедняков сократилось с 250 до 34 миллионов.
- Индия. За последние 20 лет уровень бедности снизился вдвое.
- Вьетнам. Результаты обследований самых бедных семей свидетельствуют о том, что в 90-е годы ХХ века свои жилищные условия улучшили 98% членов таких семей. Правительство провело обследование семей в начале процесса реформ и, вернувшись к этим же семьям через шесть лет, установило, что произошло значительное снижение уровня нищеты. У людей стало больше продуктов питания, их дети посещали среднюю школу. Одним из многочисленных факторов, повлиявших на успех реформ во Вьетнаме, стала либерализация торговли. За десять лет уровень нищеты в стране удалось сократить в два раза. Вследствие экономической интеграции выросли цены на продукцию неимущих фермеров: рис, рыбу, орехи кешью, а также увеличилось количество рабочих мест на фабриках по изготовлению обуви и одежды, где работа оплачивается гораздо лучше, чем другая работа во Вьетнаме.
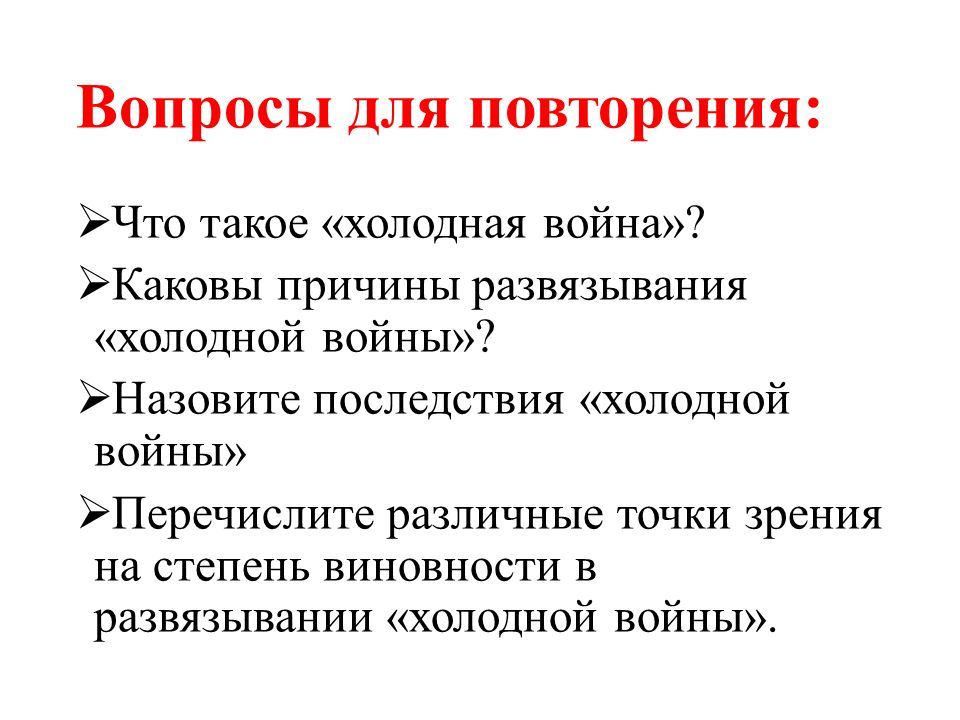
Другим странам глобализация не помогла:
- Многие африканские страны не получили никакой выгоды от глобализации. Их экспорт по-прежнему сводится к ограниченному перечню основных видов сырья.
- Некоторые эксперты объясняют отставание этих стран неэффективностью проводимой политики, неразвитостью инфраструктуры, слабостью институтов и коррумпированностью органов власти.
- Другие эксперты считают, что некоторые страны не могут влиться в процесс глобального роста вследствие неблагоприятного географического положения и климатических условий. Так, страны, не имеющие выхода к морю, могут испытывать трудности с конкуренцией на глобальных рынках товаров промышленного производства и услуг.
В последние несколько лет в странах Европы и в США выражались протесты по поводу последствий глобализации. Однако согласно результатам обследования, недавно проведенного «Исследовательским центром Пью», во многих развивающихся странах имеет место весьма сильная поддержка различных аспектов интеграции, в особенности торговли и прямых инвестиций.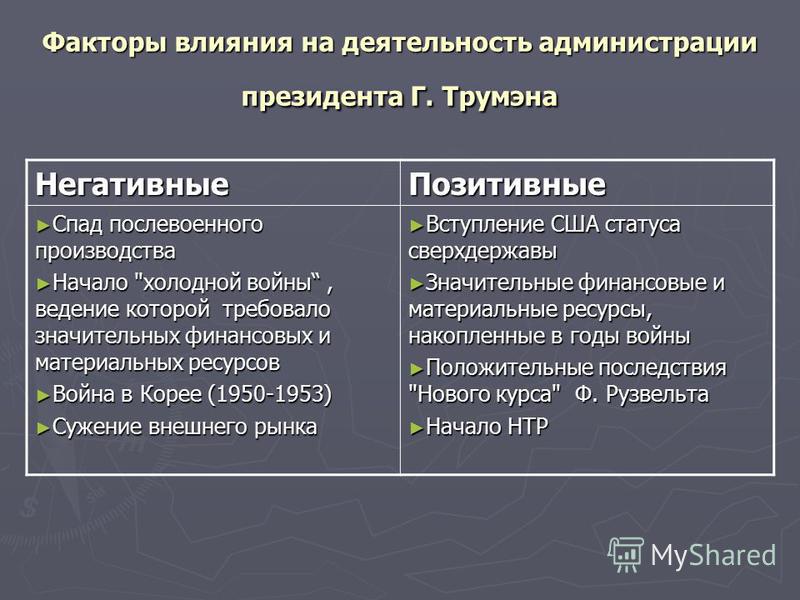 В странах Африки к югу от Сахары 75% домашних хозяйств считают, что инвестиции многонациональных корпораций являются положительным моментом.
В странах Африки к югу от Сахары 75% домашних хозяйств считают, что инвестиции многонациональных корпораций являются положительным моментом.
Только факты
История глобализации
Самая последняя волна глобализации, возникшая в 1980 году, была вызвана сочетанием достижений в технологиях транспорта и коммуникации, а также действиями крупных развивающихся стран, которые пытались привлечь иностранные инвестиции путем открытия своих экономик для международной торговли.
Фактически это была третья волна данного явления, начавшегося еще в 1870 году.
Первая волна глобализации длилась с 1870 года до начала Первой мировой войны. Стимулом в данном случае были достижения в транспортной сфере и снижение торговых барьеров. В результате расцвета мировой торговли доля экспорта в объеме мировых доходов удвоилась и составила 8%.
Это вызвало массовую миграцию людей в поисках лучшей работы.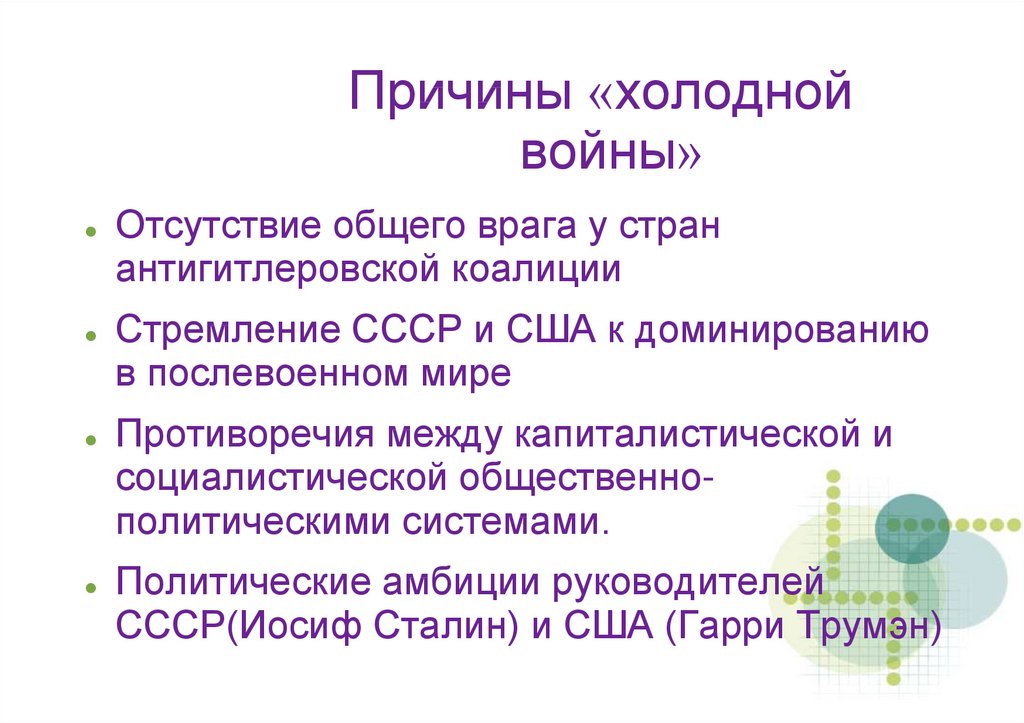 Около 10% мирового населения переехали в другие страны. 60 миллионов человек переместились из Европы в Северную Америку и другие части Нового Света. То же самое произошло в густонаселенных Китае и Индии, из которых люди выезжали в менее густонаселенные страны, такие как Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, Филиппины и Вьетнам.
Около 10% мирового населения переехали в другие страны. 60 миллионов человек переместились из Европы в Северную Америку и другие части Нового Света. То же самое произошло в густонаселенных Китае и Индии, из которых люди выезжали в менее густонаселенные страны, такие как Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, Филиппины и Вьетнам.
Окончание Первой мировой войны положило начало эре протекционизма. В торговле появились такие торговые барьеры, как тарифы. Мировой экономический рост приостановился, и доля экспорта в объеме мировых доходов упал до уровня 1870 года.
После Второй мировой войны наблюдалась вторая волна глобализации, которая продолжалась в период примерно с 1950 по 1980 год. В основном вторая волна проявилась в интеграции таких развитых стран, как страны Европы, Северной Америки и Японии, которые восстановили торговые отношения путем либерализации многосторонней торговли.
В течение этого периода произошел подъем в экономическом развитии стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, что явилось одной из причин торгового бума.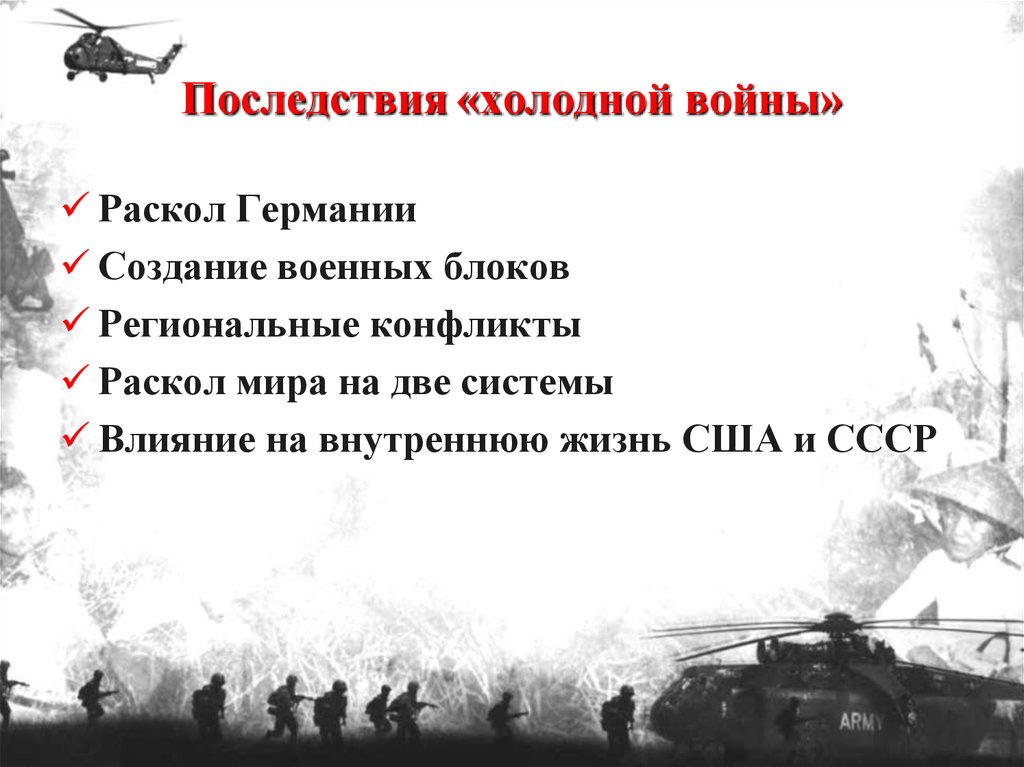 Однако развивающиеся страны в основном оказались вне этой интеграционной волны, т.к. они могли торговать лишь основными видами сырья.
Однако развивающиеся страны в основном оказались вне этой интеграционной волны, т.к. они могли торговать лишь основными видами сырья.
Что делает международное сообщество?
Представитель Всемирного банка Дэвид Доллар сравнивает глобализацию со скоростным поездом, в который страны могут попасть только, если они «построят платформу». На самом деле построить платформу означает создать основу, обеспечивающую успешное функционирование страны. Она включает в себя имущественные права, верховенство закона, базовое образование и медико-санитарное обслуживание, надежную инфраструктуру (например, порты, дороги и таможенные службы) и т.д.
Международные организации, например Всемирный банк, агентства по оказания двусторонней помощи и неправительственные организации, сотрудничают с развивающимися странами в целях создания этой основы, чтобы они могли подготовиться к глобальной интеграции.
Если правительства не создадут такой основы и не обеспечат оказания элементарных услуг, бедняки не смогут воспользоваться преимуществами и останутся на обочине развития.
Также важно, чтобы правительство хорошо управляло страной. Если в стране коррумпированное и некомпетентное правительство, сторонние агентства вряд ли смогут изменить жизнь людей.
Что могу сделать я?
- Расширяйте свои знания о мире и о текущих событиях.
- Станьте участником движения добровольцев. Посетите сайты UN Volunteer или Idealist , где вы сможете получить информацию об имеющихся в мире возможностях волонтерской деятельности, направленной на содействие устойчивому развитию.
Если вы живете в развитой стране:
- Обратитесь в национальную волонтерскую службу вашей страны
- Или посетите сайты UN Volunteer или Idealist для получения информации о других вариантах
- Посетите дополнительные сайты, указанные на странице странице «Проявите инициативу»
- Узнайте, сколько средств выделяется правительством вашей страны в рамках двусторонней и многосторонней помощи, и попытайтесь убедить правительство увеличить объем выделяемых средств.

Если вы живете в развивающейся стране:
- Ходите в школу — учитесь и получайте знания
- Добровольно помогайте нуждающимся
- Убеждайте других детей и молодых людей в том, что важно ходить в школу и участвовать в движении добровольцев
Дополнительные ресурсы
- ООН и вопросы глобализации
- Глобальный договор
- Цели в области устойчивого развития до 2030 года
Дополнительная информация на веб-сайте Всемирного банка
Холодная война и культура
Александр Генис: Вышедшую на днях в Америке 700-страничную монографию “Свободный мир” называют самой долгожданной книгой этого года. И понятно почему. Луис Менанд – популярнейший критик, постоянный автор журнала “Ньюйоркер”, который читает или хотя бы выписывает каждый уважающий себя интеллигент в Нью-Йорке. Он занимает почетное место “публичного интеллектуала”, роль, которую так блестяще играла Сюзан Зонтаг.
При этом Менанд строго ограничил хронологические рамки своего повествования. Его интересует 20-летие между 1945-м и 1965-м годами, то есть, от конца Второй мировой до начала Вьетнамской войны. Этот период, как бы странно это ни звучало, у автора выглядит золотым веком холодной войны.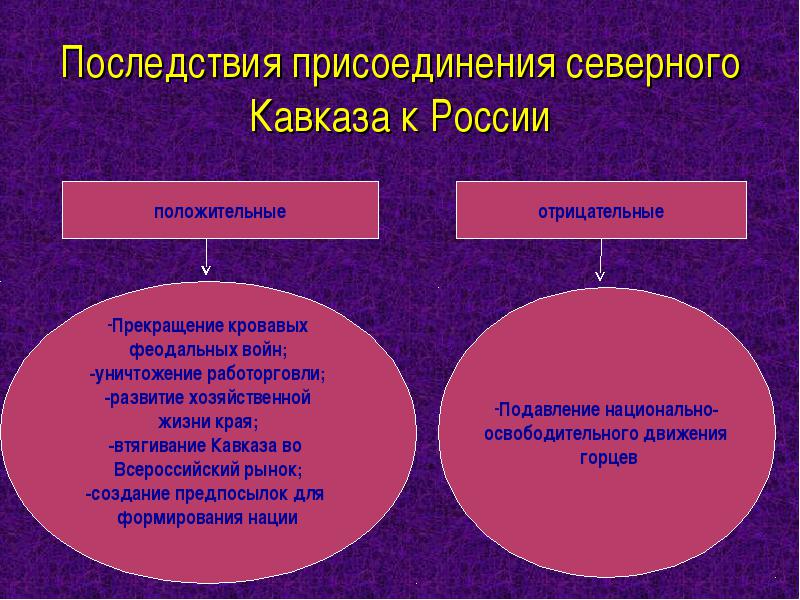 Оправдывая такое мнение, Менанд пишет, что Америка да и весь Запад жили тогда с сознанием, что все очень важно: идеи, картины, фильмы, стихи, а главное – свобода, которая после кошмаров двух мировых войн стала центральным понятием, девизом и фетишем целого поколения.
Оправдывая такое мнение, Менанд пишет, что Америка да и весь Запад жили тогда с сознанием, что все очень важно: идеи, картины, фильмы, стихи, а главное – свобода, которая после кошмаров двух мировых войн стала центральным понятием, девизом и фетишем целого поколения.
Вьетнамская война расколола общество и отчасти скомпрометировала идеи свободного мира, но этот большой сюжет Менанд оставил для следующей книги.
Сегодня мы с Соломоном Волковым, сами в определенном смысле ветераны холодной войны, обсудим поднятые в книге Менанда вопросы – как всегда в контексте новейших событий и отечественной культуры.
Соломон, книга Менанда целиком посвящена одному аспекту холодной войны – тому, что мы сейчас называем “мягкой силой”. Насколько оправдан такой подход?
Соломон Волков: Книга Менанда, о которой вы так хорошо сказали, меня привлекла именно этим – его вниманием к тому, что мы называем «мягкой силой».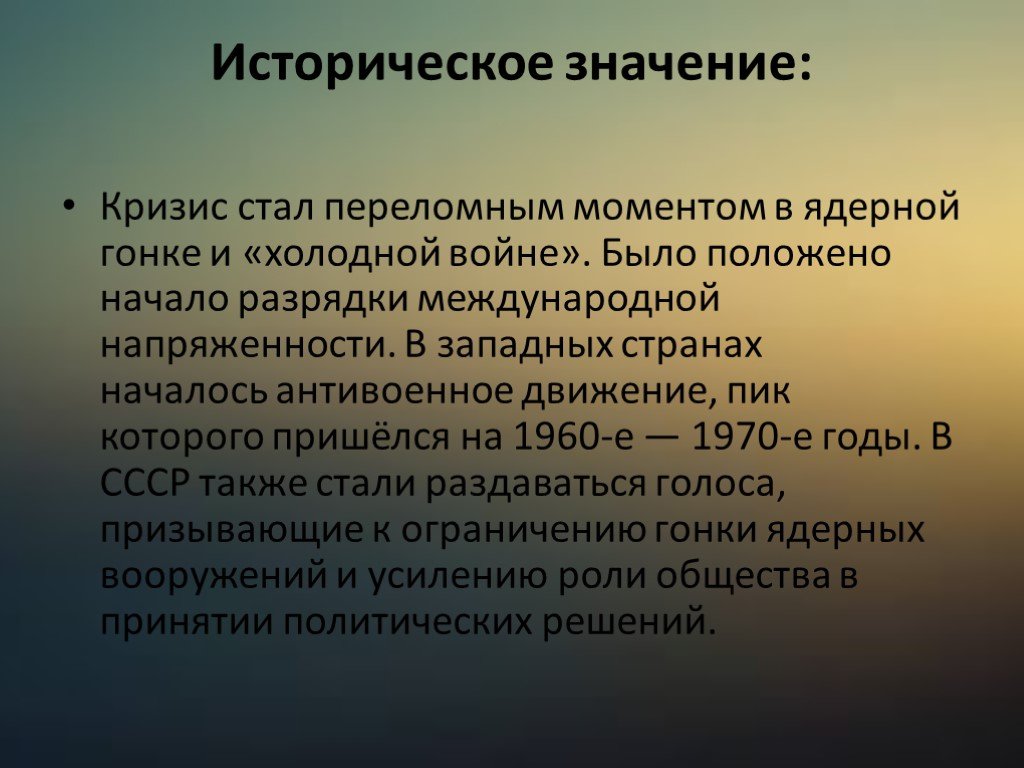 Для меня это ностальгические эмоции, тоска по тем временам, когда «мягкая сила» действительно играла огромную роль в международных отношениях, когда она действительно была силой. Я могу вспомнить наугад несколько таких эпизодов еще периода нашего с вами пребывания в Советском Союзе. Скажем, приезд афроамериканской оперы со спектаклем «Порги и Бесс» в Москву. Это была сенсация, которая изменила понимание, отношение к американской музыке. Тогда впервые со сцены можно было услышать эту потрясающую оперу Гершвина. Или другой пример – победа Вана Клиберна на первом Международном конкурсе имени Чайковского. Это тоже была сенсация, которая затронула широчайшие круги советской публики, это не касалось только меломанов. Сейчас проходят конкурсы Чайковского, но только узкий круг людей, специально интересующихся классической музыкой, в это вовлекается. Победа же Клиберна стала общесоюзным феноменом. Клиберн стал буквально национальным героем в Советском Союзе у самых широких слоев населения. Любой человек из той эпохи знает, кто это такой, сейчас такое себе представить невозможно.
Для меня это ностальгические эмоции, тоска по тем временам, когда «мягкая сила» действительно играла огромную роль в международных отношениях, когда она действительно была силой. Я могу вспомнить наугад несколько таких эпизодов еще периода нашего с вами пребывания в Советском Союзе. Скажем, приезд афроамериканской оперы со спектаклем «Порги и Бесс» в Москву. Это была сенсация, которая изменила понимание, отношение к американской музыке. Тогда впервые со сцены можно было услышать эту потрясающую оперу Гершвина. Или другой пример – победа Вана Клиберна на первом Международном конкурсе имени Чайковского. Это тоже была сенсация, которая затронула широчайшие круги советской публики, это не касалось только меломанов. Сейчас проходят конкурсы Чайковского, но только узкий круг людей, специально интересующихся классической музыкой, в это вовлекается. Победа же Клиберна стала общесоюзным феноменом. Клиберн стал буквально национальным героем в Советском Союзе у самых широких слоев населения. Любой человек из той эпохи знает, кто это такой, сейчас такое себе представить невозможно.
Александр Генис: Менанд пишет обо всех этих событиях и о тех людях, которые представляли свободный мир, в своей книге как о «борцах идеологического фронта». Я специально использую советское клише, но переворачиваю его, потому что тогда действительно шла идеологическая война. Существовало две идеологии: идеология свободного мира, то есть свободные выборы, свобода печати, свобода собраний, то есть все, что написано в американской Конституции, да и в любой другой западной конституции. Ясные, внятные, а главное, работающие принципы. Скажем, что такое свобода выборов? Мы только что убедились, как она работает, когда предыдущий президент пытался не признать исход. Но институты свободного мира оказались сильнее, в результате у нас другой президент. D Беларуси, как и в России, такое и не снилось.
С другой стороны фронта царила марксистская догма, которая тоже обладала большой привлекательной силой. Полмира увлекались марксизмом – где-нибудь в джунглях Анголы, или Латинской Америки, или на Кубе. Эта идеология угрожала свободному миру уже потому, что она верила в свою победу. Помните, когда Хрущев сказал американцам: «Мы вас похороним». И когда ему в Америке показали в Нью-Йорке монумент Свободы, он сказал: «Мы тоже ставим памятники своим знаменитым покойникам». (Я до сих пор не верю, что это его шутка, во всяком случае она достаточно остроумна.)
Эта идеология угрожала свободному миру уже потому, что она верила в свою победу. Помните, когда Хрущев сказал американцам: «Мы вас похороним». И когда ему в Америке показали в Нью-Йорке монумент Свободы, он сказал: «Мы тоже ставим памятники своим знаменитым покойникам». (Я до сих пор не верю, что это его шутка, во всяком случае она достаточно остроумна.)
Эта идеологическая война, собственно говоря, и составляла суть холодной войны. Менанд в своей книге очень подробно и ясно описывает, как это происходило.
Но нынешняя холодная война, которую развязывает Путин, загадочная, потому что я не понимаю, что он противопоставляет свободному миру? Ведь изумительная особенность победы в холодной войне заключается в том, что Запад выиграл холодную войну, а в результате победили и Запад, и Восток, освободившийся от коммунизма. Это именно то, что Ельцин сказал в американском Конгрессе, это и есть победа для двоих. В чем заключается идеология нынешней холодной войны, я не понимаю.
Соломон Волков: С идеологией в настоящий момент проблемы во всем мире.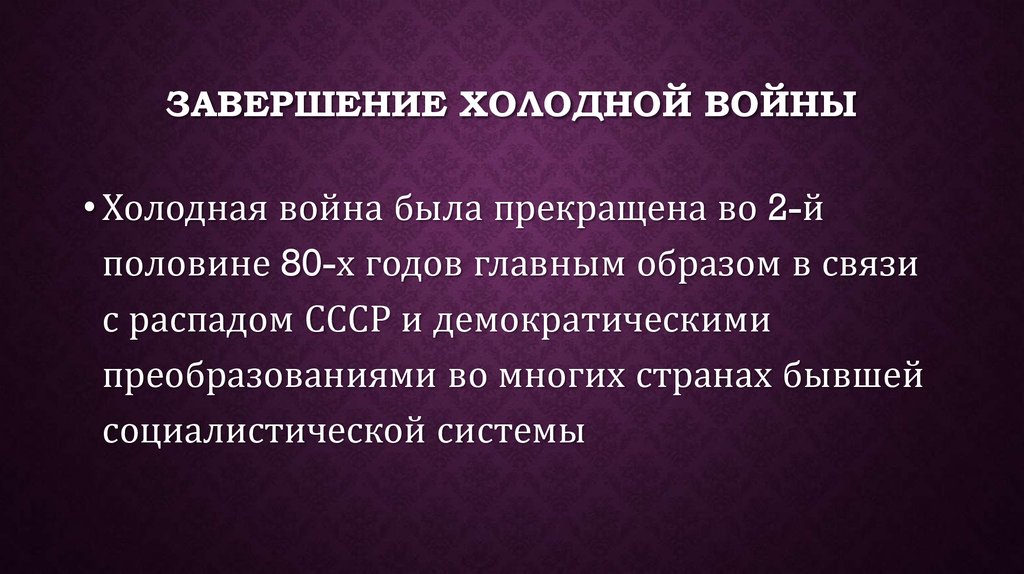 Все находятся в поисках этой самой идеологии и никак не могут ее сформулировать. Возьмем историческое обращение президента Байдена к Конгрессу. Он в нем слово «холодная война» не произнес ни разу. Вместо этого он подчеркнуто сказал, я цитирую это дословно, “нам нужно доказать, что демократия еще работает». В Америке мы наблюдаем за очень тревожным явлением, которое и Байден признает, и его союзники, мы видим поляризацию электората, и мы видим эту самую бесславную атаку на Белый дом 6 января, которая является позорным явлением в новейшей американской истории.
Все находятся в поисках этой самой идеологии и никак не могут ее сформулировать. Возьмем историческое обращение президента Байдена к Конгрессу. Он в нем слово «холодная война» не произнес ни разу. Вместо этого он подчеркнуто сказал, я цитирую это дословно, “нам нужно доказать, что демократия еще работает». В Америке мы наблюдаем за очень тревожным явлением, которое и Байден признает, и его союзники, мы видим поляризацию электората, и мы видим эту самую бесславную атаку на Белый дом 6 января, которая является позорным явлением в новейшей американской истории.
Александр Генис: Конечно, демократия должна доказать, что она по-прежнему работает, Байден именно это и сказал. Но на этот раз он говорит о победе демократии не над Россией, которая стала второстепенной державой, а над Китаем. Вот где настоящая холодная война сегодня – это с Китаем. Но ее особенность – предмет совсем другого разговор. Давайте вернемся к книге.
«Длинная телеграмма»Среди множества “эмблематических” героев книги выделяются несколько нам хорошо знакомых. Первый из них – Джордж Кеннан, американский дипломат, который начинал, кстати говоря, свою карьеру в наших с вами балтийских краях – в Таллине и в Риге. Кеннан в своей знаменитой пятистраничной “длинной телеграмме” сформулировал стратегию сдерживания. Смысл ее, как трактует этот документ Менанд, – сдерживать советскую агрессию во всем мире, дожидаясь пока коммунистический режим со всеми его зверствами, вроде ГУЛАГа и чекистов, погубит не “горячая война”, а собственная экономическая и политическая неполноценность. Он верил, что русский народ сам разберется со своими вождями, еще и потому, что был русофилом и говорил: “Россия в моей крови, с ней у меня мистическая связь”. К счастью, Кеннан (он умер в 101 год) дожил до перестройки и увидел, как сбылись его предсказания.
Первый из них – Джордж Кеннан, американский дипломат, который начинал, кстати говоря, свою карьеру в наших с вами балтийских краях – в Таллине и в Риге. Кеннан в своей знаменитой пятистраничной “длинной телеграмме” сформулировал стратегию сдерживания. Смысл ее, как трактует этот документ Менанд, – сдерживать советскую агрессию во всем мире, дожидаясь пока коммунистический режим со всеми его зверствами, вроде ГУЛАГа и чекистов, погубит не “горячая война”, а собственная экономическая и политическая неполноценность. Он верил, что русский народ сам разберется со своими вождями, еще и потому, что был русофилом и говорил: “Россия в моей крови, с ней у меня мистическая связь”. К счастью, Кеннан (он умер в 101 год) дожил до перестройки и увидел, как сбылись его предсказания.
Вопрос в том, будет ли работать доктрина Кеннана – сдерживание агрессивных импульсов Путина – сегодня?
Соломон Волков: Я с огромным уважением отношусь к фигуре Кеннана. К его доктрине сдерживания до сих пор апеллируют и справа, и слева американские политики, то есть для них это остается наилучшей формулировкой отношения и тогда к Советскому Союзу, и, по их мнению, к сегодняшней России. Но надо подчеркнуть, что Кеннан говорил именно о сдерживании, а не об обмене уколами рапиры, особенно учитывая, что эта рапира – ядерное оружие.
Но надо подчеркнуть, что Кеннан говорил именно о сдерживании, а не об обмене уколами рапиры, особенно учитывая, что эта рапира – ядерное оружие.
Александр Генис: Это и есть ключ к доктрине Кеннана, смысл сдерживания в том, чтобы противостоять советской агрессии на всей планете и в то же время удержаться от атомной войны. Тогда каждая из сторон ждала, когда вторую поразит кризис. Сегодня примерно такая же история, только я не очень понимаю, как это работает для Путина в условиях экономического, политического и демографического кризиса в России, когда нечего противопоставить, Западу, кроме ядерного оружия.
Обложка книгиДругой важнейший персонаж книги – Джордж Оруэлл, который (я этого не знал) первым ввел сам термин «холодная война». Его знаменитая книга “1984” в период между 1949-м и 1956-м разошлась тиражом в два миллиона экземпляров. Переведенная на 60 языков, она заложила фундамент идеологии холодной войны для широких масс. Одно дело – трактаты философов, экономистов, ученых, они не для массовой публики, Оруэлл был для всех. С явлением Оруэлла в книгу Менанда приходит острая тема бывших левых, Оруэлл сам был бывшим левым. Одни разочаровались в коммунизме еще до войны, после заключения союза Сталина с Гитлером. Другие – после закабаления Восточной Европы после войны, третьи после подавления восстания в Венгрии, четвертые – после разгрома Пражской весны. И так далее, вплоть до Афганистана, чему уже и мы были свидетели.
С явлением Оруэлла в книгу Менанда приходит острая тема бывших левых, Оруэлл сам был бывшим левым. Одни разочаровались в коммунизме еще до войны, после заключения союза Сталина с Гитлером. Другие – после закабаления Восточной Европы после войны, третьи после подавления восстания в Венгрии, четвертые – после разгрома Пражской весны. И так далее, вплоть до Афганистана, чему уже и мы были свидетели.
Вы ведь знаете бывших американских левых? Что это за люди?
Соломон Волков: Это очень интересный вопрос. Американские левые – это чрезвычайно разнообразная группа. Эволюционировали они тоже в разные стороны и по-разному. С одной стороны, это Аллен Гинзберг, с которым я познакомился здесь через Вознесенского. С другой стороны, Сьюзен Зонтаг, с которой я познакомился через Иосифа Бродского. Как мы все знаем, Зонтаг и Бродский близкими друзьями. Гинзберг в Соединенных Штатах был представителем контркультуры и, скорее всего, он оставался “симпатизантом” Советского Союза, таковым в 1997 году и умер. Приезжал он и в Советский Союз, кстати, эпатировал там своим нестандартным поведением даже советскую культурную элиту того времени, хотя принимала она его с восторгом.
Приезжал он и в Советский Союз, кстати, эпатировал там своим нестандартным поведением даже советскую культурную элиту того времени, хотя принимала она его с восторгом.
Эволюция Сьюзен Зонтаг произошла именно под влиянием Бродского в прямо противоположную сторону. Она стояла на крайне левых позициях, выступала против участия Соединенных Штатов в войне с Вьетнамом. Под влиянием Бродского Сьюзен Зонтаг очень сильно поправела. Особенно это было понятно на примере истории с «Солидарностью» в Польше, введения там военного положения. Она выступила резко и открыто против тогдашней политики польских и советских властей, чем вызвала крайнее неудовольствие своих бывших союзников по левой культурной фракции.
Александр Генис: В Нью-Йорке особенно сильны были левые симпатии перед войной. Весь Гринвич-Виллидж считался троцкистским. Троцкизм был этакой альтернативой Сталину. Поэтому многие писатели, например, такой замечательный американский писатель, классик, как Сол Беллоу, был троцкистом в молодости.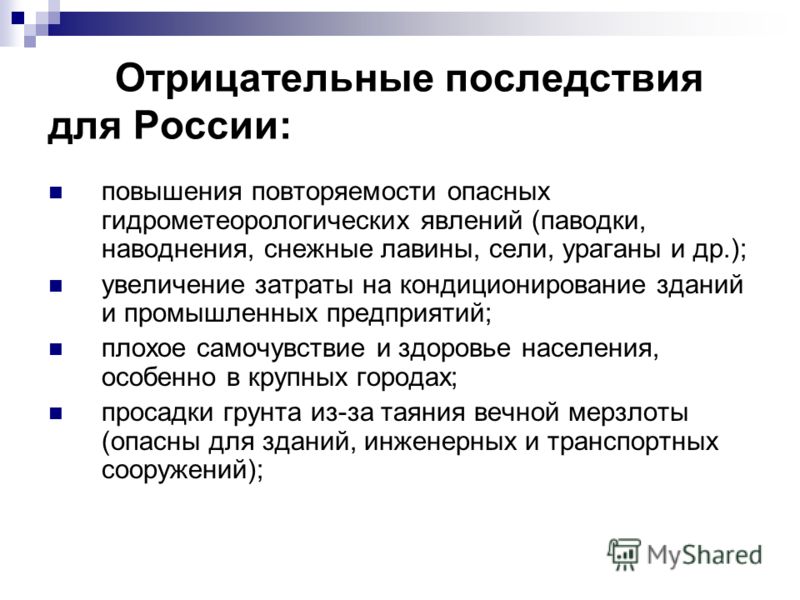 Вспомним, например, Фолкнера, его трилогию “Деревушка”, “Город” и «Особняк”, которую в России как раз все читали, потому что она была доступна – в каждой библиотеке стояли эти книги. Там положительными героями была чета американских коммунистов. Но интересно, что я застал еще людей, примерно моих ровесников, которые жили во время холодной войны в Америке. Они не верили в холодную войну – примерно так же, как мы не верили, что Америка нападет на Россию и что ястребы из Пентагона, нарисованные в журнале “Крокодил”, мечтают сбросить на нас ядерную бомбу. Мы над всем этим смеялись. Выясняется, что наши американские сверстники относились к этому примерно так же. Им казалось, что русская опасность, «красная чума», которая грядет с Востока, – это политический ход правых демагогов. В этом смысле между нами было гораздо больше общего, чем могло бы показаться.
Вспомним, например, Фолкнера, его трилогию “Деревушка”, “Город” и «Особняк”, которую в России как раз все читали, потому что она была доступна – в каждой библиотеке стояли эти книги. Там положительными героями была чета американских коммунистов. Но интересно, что я застал еще людей, примерно моих ровесников, которые жили во время холодной войны в Америке. Они не верили в холодную войну – примерно так же, как мы не верили, что Америка нападет на Россию и что ястребы из Пентагона, нарисованные в журнале “Крокодил”, мечтают сбросить на нас ядерную бомбу. Мы над всем этим смеялись. Выясняется, что наши американские сверстники относились к этому примерно так же. Им казалось, что русская опасность, «красная чума», которая грядет с Востока, – это политический ход правых демагогов. В этом смысле между нами было гораздо больше общего, чем могло бы показаться.
В последнее время появилось несколько фильмов, посвященных эпохе маккартизма. Только что два «Оскара» получил фильм «Манк», где рассказывалось о борьбе против коммунистов в Голливуде. Есть другой фильм “Трамбо» на ту же тему. (Трамбо, напомню, – замечательный сценарист, по его сценарию поставлен фильм «Римские каникулы”.) На что я обратил внимание, так это на симпатию, с которой изображены американские коммунисты. Они хотят добра, они хотят не “все взять и поделить”, а чуть-чуть взять и поделить. Они хотят умеренной справедливости. Это явно симпатичные люди, которые ненавидят сенатора Маккарти, ненавидят страшных консервативных политиков, которые портят и международную жизнь. Все это выглядит наивно, потому что я бы этим коммунистам посоветовал прочесть «Архипелаг ГУЛАГ”, но тогда про Солженицына еще никто не слышал, да и Менанд до него в своей книге не дошел.
Есть другой фильм “Трамбо» на ту же тему. (Трамбо, напомню, – замечательный сценарист, по его сценарию поставлен фильм «Римские каникулы”.) На что я обратил внимание, так это на симпатию, с которой изображены американские коммунисты. Они хотят добра, они хотят не “все взять и поделить”, а чуть-чуть взять и поделить. Они хотят умеренной справедливости. Это явно симпатичные люди, которые ненавидят сенатора Маккарти, ненавидят страшных консервативных политиков, которые портят и международную жизнь. Все это выглядит наивно, потому что я бы этим коммунистам посоветовал прочесть «Архипелаг ГУЛАГ”, но тогда про Солженицына еще никто не слышал, да и Менанд до него в своей книге не дошел.
(Музыка)
Александр Генис: Соломон, я хочу во второй части нашей передачи обратиться к близкому нам музыкальному сюжету: “Битлз”. Менанд считает чуть ли не самым важным оружием в победе над тоталитарным режимом в холодной войне группу «Битлз». В конечном счете, не Пентагон, а студия Abbey Road победила Кремль, Маркса и компанию. Согласны с такой радикальной оценкой?
Согласны с такой радикальной оценкой?
Соломон Волков: Да, да, да! Когда я говорю о «Битлз» с моими ровесниками, мы не можем найти более впечатляющего культурного события, которое бы пришло к нам с Запада в Советский Союз в те годы, я не могу себе вообразить. Это будет звучать кощунственно, но для многих моих сверстников явление «Битлз» было равно явлению Христа народу, если вспомнить картину Иванова.
Александр Генис: Как мы помним, «Битлз» так и сказали: «Мы популярнее Христа».
Соломон Волков: Что вызвало грандиозный скандал в Соединенных Штатах, вплоть до сжигания и уничтожения их пластинок здесь. Кстати, им не раз приходилось вызывать такую гневную реакцию со стороны консервативного лагеря на Западе. Как и в Советском Союзе тоже, между прочим. Я до сих пор помню эту маленькую пластиночку советскую «Битлз», которую мне удалось тогда купить, ее, конечно, достать было почти невозможно, которую я переслушивал вновь, вновь и вновь. У Бунина есть рассказ «Солнечный удар», такое же впечатление у меня тогда осталось на всю жизнь от “Битлз». Я должен сказать, что по сию пору ничего в новой западной, причем я даже не скажу поп-музыке, потому что явление «Битлз» – это нечто гораздо более широкое, я лично сравниваю их творчество с песнями Шуберта – это для меня явление на самом высоком уровне. Так вот, ничто не может сравниться с тем впечатлением, конечно, которое «Битлз» на меня и, не побоюсь сказать, на миллионы моих сверстников произвело.
У Бунина есть рассказ «Солнечный удар», такое же впечатление у меня тогда осталось на всю жизнь от “Битлз». Я должен сказать, что по сию пору ничего в новой западной, причем я даже не скажу поп-музыке, потому что явление «Битлз» – это нечто гораздо более широкое, я лично сравниваю их творчество с песнями Шуберта – это для меня явление на самом высоком уровне. Так вот, ничто не может сравниться с тем впечатлением, конечно, которое «Битлз» на меня и, не побоюсь сказать, на миллионы моих сверстников произвело.
Александр Генис: «Битлз» победили в холодной войне – этот тезис Менанда очень интересен и своеобразен. Почему, собственно говоря, что такого произошло, ну еще одни рокеры? Я специально из-за Менанда прослушал курс лекций о «Битлз», пересмотрел фильмы с «Битлз», посмотрел тексты их песен, чтобы понять, что, собственно говоря, случилось тогда. Это довольно трудно понять, но в контексте холодной войны «Битлз» выглядели совершенно не так, как сегодня. Дело в том, что Англия 60-х годов уже не была сверхдержавой, она уже не правила морями, это уже был маленький “изумрудный остров”, как говорил Шекспир. Но в ответ на распад империи Англия взяла реванш в области массовой культуры. «Битлз» и «Джеймс Бонд» вышли победителями в схватке с тоталитарным режимом. “Битлз» взорвали привычный образ жизни. При этом слова их, особенно первых песен, были никакими, но музыка действовала на подсознательном уровне, она означала одно – свободу. Причем эта свобода была не артикулирована, она не была свобода от чего-то. Никто не говорил, что это свобода от рабства, ничего подобного, это была свобода как таковая. И эта свобода работала в две стороны, она размывала и истеблишмент в Америке, на Западе, она создавала контркультуру, которая кардинально изменила ход жизни. Во времена вьетнамской войны уже совсем другая была обстановка в мире, и это произошло во многом благодаря, казалось бы, беззлобным песням «Битлз», сокрушившим статус-кво.
Но в ответ на распад империи Англия взяла реванш в области массовой культуры. «Битлз» и «Джеймс Бонд» вышли победителями в схватке с тоталитарным режимом. “Битлз» взорвали привычный образ жизни. При этом слова их, особенно первых песен, были никакими, но музыка действовала на подсознательном уровне, она означала одно – свободу. Причем эта свобода была не артикулирована, она не была свобода от чего-то. Никто не говорил, что это свобода от рабства, ничего подобного, это была свобода как таковая. И эта свобода работала в две стороны, она размывала и истеблишмент в Америке, на Западе, она создавала контркультуру, которая кардинально изменила ход жизни. Во времена вьетнамской войны уже совсем другая была обстановка в мире, и это произошло во многом благодаря, казалось бы, беззлобным песням «Битлз», сокрушившим статус-кво.
Соломон Волков: В Советском Союзе реакция официальной верхушки на «Битлз» и их музыку была резко отрицательной. Такой очень неглупый и очень талантливый человек, как композитор Никита Богословский, к сожалению, также прославился тем, что в печати обозвал их «жучками-ударниками», по-моему, даже говорил о каких-то навозных жуках в связи с ними.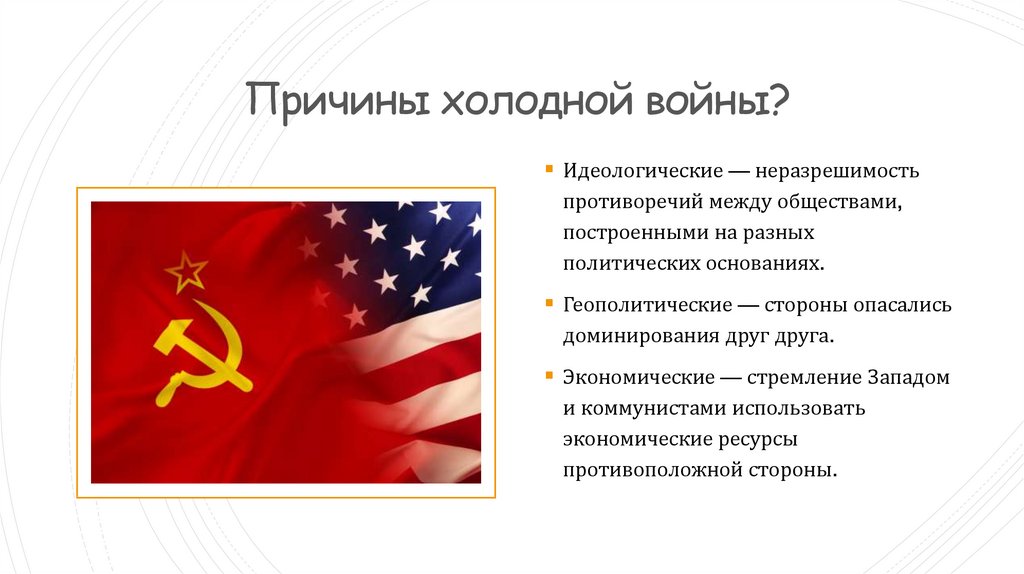
Александр Генис: У меня есть эта вырезка из «Крокодила», где написано: «Сколько они еще могут быть на сцене? Полгода, год, а потом все забудут этих парней из Ливерпуля».
Соломон «Волков: «Парни из Ливерпуля» – это еще ничего, а вот «навозные жуки» – это, пожалуй, будет посильнее. Вы знаете, для нас тогда еще молодых реакция старшего поколения была удивительна. Сам я смотрел на людей, которые встречают в штыки «Битлз», как на каких-то мастодонтов.
Александр Генис: Соломон, но в Советском Союзе в это же время родилось параллельное явление.
Соломон Волков: Да, конечно, это в первую очередь имена двух очень несхожих фигур, и отношение к ним может быть разное – это Высоцкий, с одной стороны, и Окуджава – с другой. Есть поклонники, конечно, и того, и другого в одинаковой степени, есть люди, которые предпочитают, как я, например, Окуджаву по многим соображениям, есть люди, которые, опять-таки я уважаю их мнение, предпочитают Высоцкого.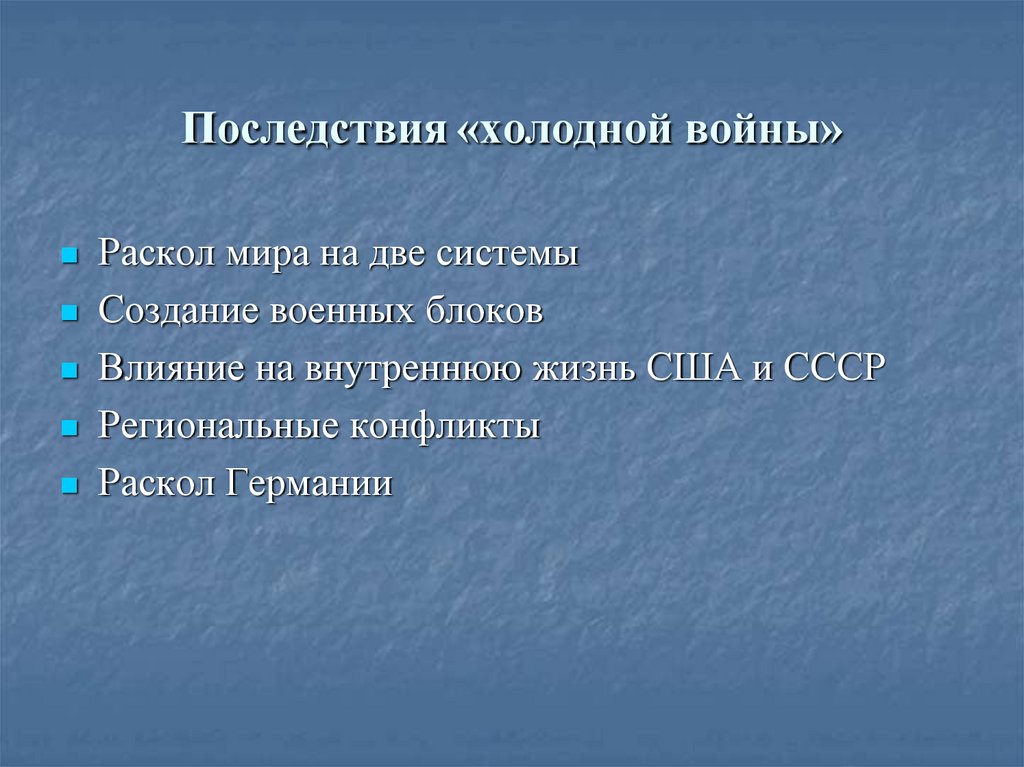 Мы можем вспомнить, что Бродский, который, думаю, не очень высоко ценил Окуджаву как поэта, восхищался именно как поэтом Высоцким.
Мы можем вспомнить, что Бродский, который, думаю, не очень высоко ценил Окуджаву как поэта, восхищался именно как поэтом Высоцким.
Александр Генис: А в чем вы видите параллель между нашими бардами и «Битлз» именно в общественном смысле?
Соломон Волков: Это было освобождающее влияние. До этого советская песня была официозной, я не побоюсь этого слова, и даже в компаниях пели только то, что раздавалось из репродуктора. Песни бардов длительное время ни из каких репродукторов, ни на каких пластинках не появлялись. Я вспоминаю в мое время злобные реакции на еще полуподпольные выступления Окуджавы, знаменитое его выступление в Доме кино в Ленинграде, на которое была агрессивная атака со стороны официальной прессы. Высоцкий тоже подвергался беспрестанной критике. И композиторы, признанные песенные композиторы того времени в лице того же Богословского или каких-то других такого рода фигур, очень болезненно относились к популярности бардов, потому что барды отнимали у них аудиторию, отнимали денежные потоки, денежные отчисления. Они видели, что теряют аудиторию, они не знали, что с этим делать, и вели себя агрессивно по отношению и к в Высоцкому, и к Окуджаве.
Они видели, что теряют аудиторию, они не знали, что с этим делать, и вели себя агрессивно по отношению и к в Высоцкому, и к Окуджаве.
Александр Генис: Давайте завершим нашу беседу одной песней «Битлз», которая стала легендарной не только в России, конечно, но в России особенно – Back in the USSR. Есть много трактовок этого опуса. Одна из них напоминает о том, что это сатирическая песня Маккартни высмеивает советского шпиона. Он возвращается из Майями в Россию, потому что московские и украинские девочки, как там поется лучше, поэтому он возвращается наконец с проклятого Запада в родной Советский Союз. Я вас уверяю, когда мы слушали эту песню, ничего подобного мы в ней не слышали, потому что мы не вслушивались в эти слова, не понимали этого контекста, для нас это была просто музыка. Тем не менее песня эта очень противоречивую реакцию вызвала во всем мире. Еще и потому, что она была написана через три месяца после вторжения в Прагу советских войск. В Америке говорили о том, что этой песней «Битлз» как бы прославляют Советский Союз, но на самом деле все было прямо наоборот. Как вы относитесь к этому опусу?
Как вы относитесь к этому опусу?
Соломон Волков: Очарование и гениальность «Битлз» заключается в том, что буквально каждая из их выдающихся песен может быть истолкована на десятки разных манер, десятками разных образов. Вот эта многослойность и есть признак всякого великого произведения искусства, оно может быть интерпретировано самым разнообразным образом. То же самое случилось и с этой песней, особенно, может быть, с этой песней, потому что все творчество «Битлз» в итоге, даже когда оно глубоко лиричное, нежное, все равно в нем всегда есть элемент иронии, элемент сюрреализма, который меня чрезвычайно привлекает. Этот сюрреалистический момент особенно, по-моему, ярко проявился в песне Back in the USSR.
У меня дома стоит книга моего доброго знакомого, к сожалению, он ушел молодым из жизни, Иэна Макдональда, он автор книги, целиком основанной, посвященной разбору мемуаров Шостаковича, опубликованных мною на Западе, мы по этому поводу с ним часто переговаривались по телефону, он жил в Лондоне, звонил мне, мы обсуждали вещи всякие, связанные с Шостаковичем. Но он прославился своей фундаментальной книгой о «Битлз», изданной в 1994 году, она называется «Революция в голове». Всего ему было, к сожалению, 54 года, когда он ушел из жизни. Книга эта, кстати, открывается очень показательным эпиграфом, Аарон Копленд, американский композитор, сказал, что «если хотите узнать о 60-х годах, то слушайте музыку «Битлз». Очень исчерпывающая, по-моему, цитата, исчерпывающее определение значения «Битлз» во всем мире.
Но он прославился своей фундаментальной книгой о «Битлз», изданной в 1994 году, она называется «Революция в голове». Всего ему было, к сожалению, 54 года, когда он ушел из жизни. Книга эта, кстати, открывается очень показательным эпиграфом, Аарон Копленд, американский композитор, сказал, что «если хотите узнать о 60-х годах, то слушайте музыку «Битлз». Очень исчерпывающая, по-моему, цитата, исчерпывающее определение значения «Битлз» во всем мире.
Александр Генис: Интересно, что Аллен Гинзберг, которого вы упоминали, приехал в Венецию, чтобы посмотреть на последнего поэта модернизма Эзру Паунда. Конечно, Паунд был с чудовищной репутацией – антисемит, фашист и так далее, но американские битники его ценили как классика предыдущей эпохи. Что же он привез ему в подарок? Чтобы показать высшее достижение свое поколения, Гинзберг привез комплект записей “Битлз» и сказал: «Вот – поэзия сегодняшнего дня, которая, как вы сказали, делает новое новым”. Любопытный жест.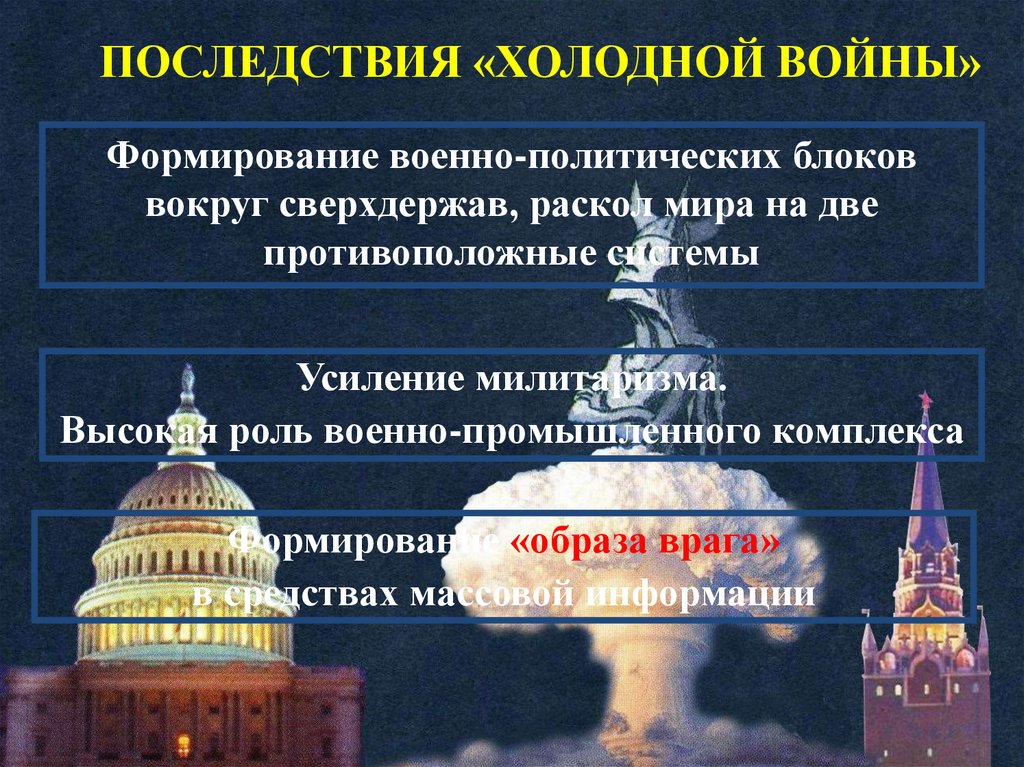
Соломон Волков: Песня потрясающая, с сильным сюрреалистическим оттенком. У Макдональда в его книге есть подробное объяснение, как буквально на репетиции и потом на записи этой песни трансформировались слова к ней. Начиналось это все как насмешка над тогдашним лозунгом «Сделаем Соединенное Королевство великим опять», напоминает нам, конечно, о лозунгах недавнего прошлого Соединенных Штатов, потом это трансформировалось по ходу записи «я поддерживаю Советский Союз», затем это было «обратно в Соединенные Штаты», все непереводимая игра слов, и наконец откристаллизовалось Back in the USSR. Сама эта трансформация, сама импровизационность этого процесса свидетельствует о том, какая это потрясающая песня. И мы ее сейчас с вами послушаем.
(Музыка)
REMOND: Последствия идеологии холодной войны продолжают сдерживать американский прогресс
Среди всех негативных последствий холодной войны для США — включая укоренившийся в поколении страх погибнуть от ядерной катастрофы — один из самых значительных нанесенных ущербов для нации было демонизацией всего, что не было капитализмом. Но прежде чем идти дальше, необходимо сделать небольшой урок истории.
Но прежде чем идти дальше, необходимо сделать небольшой урок истории.
После Второй мировой войны мир был в значительной степени опустошен, но две страны были исключением: США и Советский Союз. Нацизма больше не было, поэтому в глазах капиталистической Америки коммунизм (и, следовательно, Советский Союз) теперь был очевидным врагом. Это привело к идеологическому глобальному конфликту между самыми могущественными государствами того времени, конфликту, известному как холодная война.
Таким образом, холодная война рассматривалась как борьба между капитализмом и коммунизмом. Перенесемся в 1991 год, когда Советский Союз больше не существовал , что ознаменовало конец конфликта. Следовательно, в борьбе между идеологиями был явный победитель, не так ли? Капитализм был лучшим выбором! Что-то еще оказалось неудачным, верно? Вот где это становится сложно.
Как упоминалось ранее, холодная война укоренила в сознании целого поколения страх — страх перед ядерной катастрофой, страх, который, по моему мнению, был связан не только с ядерным оружием, но и с его хранителями и тем, что они представляли.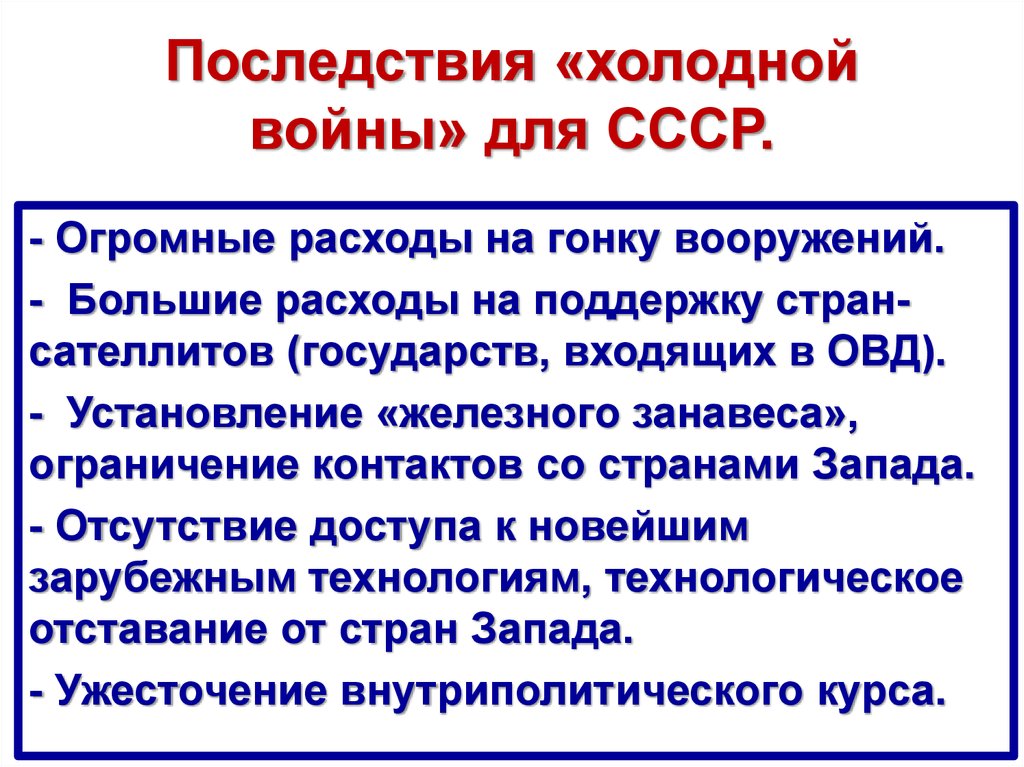 Этот страх широко пропагандировался и преувеличивался различными методами в США, пропаганда один из них.
Этот страх широко пропагандировался и преувеличивался различными методами в США, пропаганда один из них.
Из-за этого страха были созданы такие практики, как маккартизм. Маккартизм был практикой, названной в честь сенатора от Висконсина, который сказал, что коммунисты тайно интегрировались в американскую политику. Таким образом, эта практика фактически разоблачала «коммунистов» в американской политике. Дело в том, что эта тактика не использовалась справедливо.
Люди начали использовать маккартизм как оружие . Каждый раз, когда ваш противник выигрывал и вам это не нравилось, вы могли сказать, что он коммунист, и все ваши проблемы исчезли бы. Например, одним из самых известных пользователей был Роберт Мозес.
Мозес был нью-йоркским государственным чиновником, который вытеснил тысячи представителей меньшинств и коренным образом изменил ландшафт Нью-Йорка, отдав предпочтение личному транспорту, а не общественному транспорту. Моисей несколько раз использовал маккартизм, чтобы добиться этих целей (этот феномен очень хорошо объяснен в «The Power Broker» Роберта Каро).
Планировщик выступил против шоссе, проходящего через населенный пункт? Не беда — он коммунист! Он ушел. Чиновник хотел провести поезд по мосту и тем самым принести пользу тысячам рабочих, которые не могли позволить себе машину? Ну он же коммунист! И вот он тоже ушел.
На мой взгляд, маккартизм был возможен только благодаря представлению США о коммунизме и мнению о том, что капитализм превосходит не только коммунизм, но и все, что осталось в их идеологической книге.
Многие жертвы маккартизма были даже не коммунистами . У них просто были идеи, которые не были фундаментально капиталистическими. Точно так же, как католическая инквизиция создала злоупотреблений властью из-за личных интересов своих властей, маккартизм сделал то же самое с США. Он создал политическое оружие, и оно использовалось не для разоблачения коммунистов, а для личной выгоды его пользователей. .
Маккартизм устарел, и, к счастью, люди поняли, что это такое на самом деле. Тем не менее, несмотря на весь ущерб, который он наносил в прошлом, он по-прежнему наносит нам ущерб и сегодня. Вы можете увидеть это в нашей политической системе очень ясно.
Тем не менее, несмотря на весь ущерб, который он наносил в прошлом, он по-прежнему наносит нам ущерб и сегодня. Вы можете увидеть это в нашей политической системе очень ясно.
Возможно, это не совсем точное определение маккартизма, но оно точно останется. Вы можете видеть это в том, как некоторые члены одних партий обвиняют членов других партий. Лучшее здравоохранение? Нет, это коммунизм! Лучше общественный транспорт? Коммунизм! Они хотят отобрать наши машины, нашу свободу! Я мог бы продолжить и перечислить несколько примеров, но я думаю, что суть ясна.
К сожалению, это привело к битве между прогрессом и искаженным мышлением, порожденным пропагандой. В 2022 году это укоренилось в нашей культуре и продолжает блокировать возможности и идеи, которые могут принести пользу стране в целом. Это не было бы такой проблемой, если бы капитализм был совершенной идеологией, но, как и все в жизни, нет ничего идеального. У капитализма есть хорошие стороны, но в таких вопросах, как неравенство в уровне благосостояния и безработица, он неудовлетворителен 9. 0008 .
0008 .
В результате холодная война породила преувеличенный страх перед всем, что не является капитализмом, и создала оружие, подобное маккартизму, которое остановило важные идеи и разработки. В то же время те же инструменты, которые использовались для демонизации оппозиции, использовались для идеализации несовершенной системы, что привело к тому, что американское общество избегало всех видов реформ (хороших и плохих), еще больше усиливая влияние маккартизма.
Теперь все это можно оценить в нашей политической сфере и, на мой взгляд, могло быть одной из причин нашей неэффективности в осуществлении важных изменений.
США должны прекратить это ретроградное мышление и посмотреть на других великих держав, которые интегрировали различные идеи в управление своей страной. Только так мы сможем стать лучше как нация, в конечном итоге принося пользу самой важной части нашей страны — ее народу.
Марсело Ремонд учится на первом курсе инженерной школы по специальности гражданское строительство, а также по специальностям городского планирования и дизайна. Его колонка «Утопия без иронии» выходит по четвергам.
Его колонка «Утопия без иронии» выходит по четвергам.
* Колонки, карикатуры и письма не обязательно отражают точку зрения издательства Targum Publishing Company или ее сотрудников.
ВАШ ГОЛОС | The Daily Targum приветствует сообщения от всех читателей. Из-за нехватки места в нашей печатной газете объем писем в редакцию не должен превышать 900 слов. Гостевые колонки и комментарии должны содержать от 700 до 900 слов. Все авторы должны указать свое имя, номер телефона, год выпуска и принадлежность к колледжу или отделу, чтобы они были рассмотрены для публикации. Пожалуйста, отправьте по электронной почте [email protected] до 16:00. для публикации на следующий день. Колонки, карикатуры и письма не обязательно отражают точку зрения издательства Targum Publishing Company или ее сотрудников.
Вехи: 1953–1960 гг. — Управление историка
Вехи: 1953–1960 гг. — Управление историка- Дом
- Вехи
- 1953-1960
- Спутник, 1957 г.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Вехи истории международных отношений США» был
выведен из эксплуатации и больше не поддерживается. Для получения дополнительной информации см. полное уведомление.
4 октября 1957 года Советский Союз запустил земной первый искусственный спутник Спутник-1. Успешный запуск стал шоком для экспертов и граждан в Соединенных Штатах Соединенные Штаты, которые надеялись, что Соединенные Штаты добьются это научное достижение в первую очередь.
Российская марка, посвященная путешествию спутника
Тот факт, что Советы добились успеха, породил опасения американских военных
в целом отстали в разработке новых технологий. В результате запуск
Спутник служил для интенсификации гонки вооружений и повышения
Напряженность холодной войны. В 1950-е годы и США, и Советский Союз
работали над созданием новой техники. Нацистская Германия была близка к
разработка первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) вблизи
конец Второй мировой войны, и немецкие ученые помогали исследованиям в обоих
стран после этого конфликта. Обе страны также занимались
разработка спутников в рамках цели, поставленной Международным советом
Научные союзы, призывавшие к запуску спутниковых технологий
в конце 1957 или 1958. В течение десятилетия Соединенные Штаты
испытали несколько разновидностей реактивных снарядов и реактивных снарядов, но все эти испытания закончились
в неудаче.
В результате запуск
Спутник служил для интенсификации гонки вооружений и повышения
Напряженность холодной войны. В 1950-е годы и США, и Советский Союз
работали над созданием новой техники. Нацистская Германия была близка к
разработка первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) вблизи
конец Второй мировой войны, и немецкие ученые помогали исследованиям в обоих
стран после этого конфликта. Обе страны также занимались
разработка спутников в рамках цели, поставленной Международным советом
Научные союзы, призывавшие к запуску спутниковых технологий
в конце 1957 или 1958. В течение десятилетия Соединенные Штаты
испытали несколько разновидностей реактивных снарядов и реактивных снарядов, но все эти испытания закончились
в неудаче.
Советский запуск первого спутника был одним из
достижение в ряду технологических успехов. Мало в США
ожидали этого, и даже те, кто ожидал, не знали, насколько впечатляющим
это было бы. При весе 184 фунта российский спутник был намного тяжелее всего на свете.
США развивались в то время, и ее успешный запуск был
Вскоре последовал запуск двух дополнительных спутников, в том числе того,
унес собаку в космос. Вместе они совершали оборот вокруг Земли каждые 90 минут и
создавало опасения, что США сильно отстали в технологическом
способность. Эти опасения усугубились, когда Соединенные Штаты узнали, что
Советский Союз испытал первую межконтинентальную баллистическую ракету.
год.
Мало в США
ожидали этого, и даже те, кто ожидал, не знали, насколько впечатляющим
это было бы. При весе 184 фунта российский спутник был намного тяжелее всего на свете.
США развивались в то время, и ее успешный запуск был
Вскоре последовал запуск двух дополнительных спутников, в том числе того,
унес собаку в космос. Вместе они совершали оборот вокруг Земли каждые 90 минут и
создавало опасения, что США сильно отстали в технологическом
способность. Эти опасения усугубились, когда Соединенные Штаты узнали, что
Советский Союз испытал первую межконтинентальную баллистическую ракету.
год.
Хотя президент Дуайт Эйзенхауэр пытался преуменьшить
значение запуска спутника для американского
человек, он влил дополнительные средства и ресурсы в космическую программу в
усилие догнать. Правительство США потерпело серьезное поражение в декабре
1957, когда его первый искусственный спутник, названный Vanguard,
взорвался на стартовой площадке, служа очень наглядным напоминанием о том, насколько
стране еще предстояло добиться того, чтобы иметь возможность конкурировать в военном отношении с Советами.
Наконец, 31 января 1958 года Соединенным Штатам удалось запустить свой первый
спутник, проводник. «Эксплорер» был еще легче «Спутника», но
его запуск отправил его глубже в космос. Советы ответили еще одним
запуск, и космическая гонка продолжилась.
Правительство США потерпело серьезное поражение в декабре
1957, когда его первый искусственный спутник, названный Vanguard,
взорвался на стартовой площадке, служа очень наглядным напоминанием о том, насколько
стране еще предстояло добиться того, чтобы иметь возможность конкурировать в военном отношении с Советами.
Наконец, 31 января 1958 года Соединенным Штатам удалось запустить свой первый
спутник, проводник. «Эксплорер» был еще легче «Спутника», но
его запуск отправил его глубже в космос. Советы ответили еще одним
запуск, и космическая гонка продолжилась.
Успех спутника оказал большое влияние на холодную войну
и Соединенные Штаты. Опасения, что они отстали, заставили американских политиков
ускорить космические и оружейные программы. В конце 1950-х советский премьер
Никита Хрущев похвастался советской технологичностью
превосходство и растущие запасы МБР, так США работали
одновременно разрабатывать свои собственные межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы противостоять тому, что, по ее мнению, было растущим
запас советских ракет, направленных против США.