Война в Чечне – трагедия без финала — Новости
Сергей Филатов, возглавлявший администрацию президента РФ с 1993 по 1996 год, выступая на конференции, отметил, что в течение трех лет Россия пыталась избежать войны. Москва поддерживала чеченскую оппозицию с целью «обесточить» президента Чечни Джохара Дудаева. В свою очередь, Дудаев все очевиднее шел на обострение отношений с центром. Филатов признался, что сожалеет о решении ввести войска в Чечню.
– Все время стоял вопрос, вводить войска или постараться решить вопрос другим путем. Я жалею о том, что мы пошли на этот шаг, потому что на самом деле большей частью всё было подготовлено к тому, чтобы Дудаева постепенно вытеснить из республики… Мы очень многое переняли от Советского Союза, и прежде всего – советский менталитет, когда в трудных ситуациях игнорировали всякие переговоры и мирное решение проблемы, у нас было только одно на уме – задавить, подавить, а потом праздновать победу, – говорит Сергей Филатов.
Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в своем выступлении развил эту мысль, подчеркнув, что Россия и по сей день не умеет договариваться и мирно решать конфликты:
– Эта война – масса управленческих ошибок. Работала система без обратных связей, где одна и та же структура планирует, осуществляет операцию, анализирует ее результаты и рассчитывает дальнейшие действия. Переговорная составляющая была в целом слаба с обеих сторон, а это общая беда, доставшаяся нам еще от прошлых советских времен. Так получилось и так идёт до сих пор. У нас все еще нет системы с обратными связями и умения решать конфликты мирным путем.
Сергей Филатов и Вячеслав Михайлов (занимавший пост министра по делам национальностей РФ в 1995–2000 годах) сошлись во мнении, что у российской власти был шанс договориться с Дудаевым и избежать вооруженного конфликта. Их поддержал и правозащитник Валерий Борщёв. Однако первый глава ФСБ РФ Сергей Степашин подверг эту версию большому сомнению, но при этом подчеркнул, что массовых жертв можно было избежать:
– Я абсолютно убежден, что можно было обойтись без кровопролития. То, что города не берут танками, знает любой лейтенант. Авантюрное решение ввести танки в Грозный привело к огромным потерям. Можно было уйти, но сработала военная машина, и ее было не остановить.
То, что города не берут танками, знает любой лейтенант. Авантюрное решение ввести танки в Грозный привело к огромным потерям. Можно было уйти, но сработала военная машина, и ее было не остановить.
Ветеран ОМОН из Вологды написал книгу о Чеченской войне
19.08.21 / 12:40
Андрей Иванов
В Управлении Росгвардии по Вологодской области 18 августа прошла презентация книги ветерана ОМОН Вологды Александра Носова «Вспоминается Чеченская война».
Как сообщает группа «Росгвардия. Северо-Западный округ» в социальногй сети ВКонтакте, презентация собрала руководство, сотрудников, военнослужащих, ветеранов регионального ведомства, а также героев книги.
Александр Носов проходил службу в должности начальника медицинской части ОМОН, несколько раз исполнял служебно-боевые задачи в Чеченской республике. Воспоминания об этих командировках и легли в основу его книги.
Воспоминания об этих командировках и легли в основу его книги.
Ветеран ОМОН рассказал собравшимся об истории создания книги, ее героях, уникальных кадрах из личного фотоархива. Также он исполнил несколько собственных песен, вошедших в одноименный альбом «Вспоминается», о службе в ОМОН и командировках в «горячие точки».
Гости мероприятия, в том числе и герои книги, поделились своими воспоминаниями о событиях тех лет. Как отметил председатель ветеранской организации Управления Росгвардии по Вологодской области Станислав Сокольник, эта книга важна не только для ветеранов, которые сделали многое для ее выхода, но и для молодых сотрудников и военнослужащих ведомства, поскольку в ней содержатся воспоминания и история тех событий «от первого лица».
Фото: vk.com/rosgvardszo
Ветеран ОМОН из Вологды написал книгу о Чеченской войне
Ветеран ОМОН из Вологды написал книгу о Чеченской войне
Ветеран ОМОН из Вологды написал книгу о Чеченской войне
ПИР-Центр
Дмитрий Евстафьев
Вопросы безопасности, Том 6, Номер 2(116), Январь 2002
Введение
Нынешняя зимняя кампания знаменует начало третьего годичного цикла присутствия российских войск в Чечне и это дает основания подводить некоторые итоги деятельности и российских войск, и федеральных органов государственной власти по стабилизации положения в Чечне. После установления относительно плотного контроля федеральных сил над большей частью территории Чечни прошло более двух лет (если считать отправным моментом декабрь 1999 года). Это дает возможность сравнивать политическую и военную эффективность действий Москвы во Второй чеченской войне с периодом 1994–1996 годов, когда общая продолжительность присутствия в Чечне федеральных сил не превысила 20 месяцев.
После установления относительно плотного контроля федеральных сил над большей частью территории Чечни прошло более двух лет (если считать отправным моментом декабрь 1999 года). Это дает возможность сравнивать политическую и военную эффективность действий Москвы во Второй чеченской войне с периодом 1994–1996 годов, когда общая продолжительность присутствия в Чечне федеральных сил не превысила 20 месяцев.
Одновременно нельзя не обратить внимание на то, что сегодняшний период в развитии ситуации в Чечне считается принципиально важным, своего рода переломным. Во многом это связано с тем, что пока федеральным силам не удалось как на военном, так и на политическом уровне доказать нереверсируемость военно-политической ситуации в Чечне, то есть отсутствие каких-либо перспектив возвращения представителей сепаратистской элиты к власти. Сложившееся положение отчасти связано с относительно вялым течением военно-политической обстановки в Чечне в летний период 2001 года, которой сопутствовали не вполне понятные политические маневры федерального руководства, связанные со стремлением смягчить давление на Россию со стороны государств Запада по поводу нарушения прав человека.
В таких условиях именно зимняя компания 2001–2002 годов стала восприниматься как решающий момент для добивания остатков боевиков и окончательного гарантирования федеральной группировки от поражения, сравнимого с падением Грозного в августе 1996 года, после которого российское руководством было вынуждено пойти на политическую капитуляцию, имевшую значительные политические последствия. Однако отмеченные военно-политические процессы развиваются на фоне изменяющейся политической конъюнктуры как внутри Чечни, так и вне ее, что создает исключительно комплексную ситуацию с точки зрения механизма принятия решений. В предварительном плане можно отметить, что механизм, определяющий характер и особенности принятия политических решений высшим российским руководством имеет очевидную тенденцию к усложнению, но главное – в нем появляются новые элементы, которые в период Первой чеченской войны считались вторичными, например, вопрос об экономической политике в Чечне, а федеральное руководство оказалось лишь ограниченно способным к функциональной интеграции новых элементов в свою стратегию. В результате, в целом политика федерального центра в Чечне как с точки зрения социально-политических приоритетов, так и в военно-силовой сфере, развивалась по схожей с Первой чеченской войной модели.
Однако отмеченные военно-политические процессы развиваются на фоне изменяющейся политической конъюнктуры как внутри Чечни, так и вне ее, что создает исключительно комплексную ситуацию с точки зрения механизма принятия решений. В предварительном плане можно отметить, что механизм, определяющий характер и особенности принятия политических решений высшим российским руководством имеет очевидную тенденцию к усложнению, но главное – в нем появляются новые элементы, которые в период Первой чеченской войны считались вторичными, например, вопрос об экономической политике в Чечне, а федеральное руководство оказалось лишь ограниченно способным к функциональной интеграции новых элементов в свою стратегию. В результате, в целом политика федерального центра в Чечне как с точки зрения социально-политических приоритетов, так и в военно-силовой сфере, развивалась по схожей с Первой чеченской войной модели.
Политический контекст
Хотя в начале 2001 года многими прогнозировалось начало серьезных процессов организационной дезинтеграции созданной в Чечне системы власти под грузом внутренних противоречий, этого не произошло.
 Это говорит о том, что процессы передела собственности и контроля над наиболее доходными сферами Чечни продвинулись уже довольно далеко. В противном случае, Ахмад Кадыров, Беслан Гантамиров и их союзники могли бы опираться только на поддержку российских структур и были бы вынуждены действовать исключительно в рамках сформулированных в Москве задач.
Это говорит о том, что процессы передела собственности и контроля над наиболее доходными сферами Чечни продвинулись уже довольно далеко. В противном случае, Ахмад Кадыров, Беслан Гантамиров и их союзники могли бы опираться только на поддержку российских структур и были бы вынуждены действовать исключительно в рамках сформулированных в Москве задач.
Однако, несмотря на появление нового и весьма существенного позитивного момента, политический контекст операции в Чечне оставался сложным, причем российское руководство в политическом смысле на протяжении всего 2001 года оказалось зависимо от четырех основных факторов.
Во-первых, Аслан Масхадов при всех политических и военных неудачах и виртуальности своего влияния в Чечне, а также конфликте с основными полевыми командирами, смог сохранить в целом свой имидж, как легитимного лидера значительной части чеченского народа. Тогда как российские ставленники не смогли нарастить собственную легитимность, оставшись, по сути, крупными полевыми командирами, в том числе и в силу того, что вместо формирования мощной коалиции, в течение 2001 года интенсивно занимались борьбой за власть, чем повторили в худшем виде политическую парадигму межвоенной Чечни. Безусловно, самопродление Асланом Масхадовым своих полномочий в качестве президента Ичкерии без всяких попыток даже имитировать созыв некоего института (например, Совета старейшин или сходного с институциональной точки зрения органа), который мог бы придать дополнительный вес его решению, доказывает явную маргинализацию Аслана Масхадова как политического деятеля. Однако Москва пока никак не смогла сделать этот фактор частью своей политики, особенно в международном контексте, более того, заявив о начале переговоров с представителями Аслана Масхадова, она тем самым подкрепила его положение как единственного легитимного политика Чечни со стороны оппозиции. Таким образом, 2001 год, начатый под знаком попыток делегитимизации Аслана Масхадова и уравнивания его с Шамилем Басаевым и Хаттабом, закончился прямо противоположным результатом, что будет иметь существенные последствия для дальнейшего развития ситуации в республике.
Безусловно, самопродление Асланом Масхадовым своих полномочий в качестве президента Ичкерии без всяких попыток даже имитировать созыв некоего института (например, Совета старейшин или сходного с институциональной точки зрения органа), который мог бы придать дополнительный вес его решению, доказывает явную маргинализацию Аслана Масхадова как политического деятеля. Однако Москва пока никак не смогла сделать этот фактор частью своей политики, особенно в международном контексте, более того, заявив о начале переговоров с представителями Аслана Масхадова, она тем самым подкрепила его положение как единственного легитимного политика Чечни со стороны оппозиции. Таким образом, 2001 год, начатый под знаком попыток делегитимизации Аслана Масхадова и уравнивания его с Шамилем Басаевым и Хаттабом, закончился прямо противоположным результатом, что будет иметь существенные последствия для дальнейшего развития ситуации в республике.
Во-вторых, налицо сохранение серьезного давления на Россию со стороны Запада и либерально-гуманитарных кругов внутри страны с требованиями обозначить процесс мирного урегулирования в Чечне, под которым понимается прямой допуск видных представителей сепаратистов к институтам власти в республике. Очевидно, что прекращение давления на Москву по чеченскому вопросу после террористических актов 11 сентября со стороны западных государств и, прежде всего, США носило временный характер. После решения основных задач по созданию обеспечивающей инфраструктуры на территории постсоветских государств Центральной Азии, для чего требовался нейтралитет со стороны России, оно было возобновлено. Известное заявление государственного департамента США по поводу операции федеральных сил в Аргуне, степень жесткости которого совершенно не соответствовала реальному масштабу события, продемонстрировало, что для США был важен только повод для обозначения темы Чечни в качестве важнейшего инструмента информационного взаимодействия с Россией. Тем более маловероятно, чтобы Запад допустил продолжение давления со стороны России на Грузию. Такой поворот ситуации ставит российское руководство – на фоне сохраняющейся публичной легитимности Аслана Масхадова – перед сложной дилеммой. Либо начать, как минимум, имитировать переговорный процесс, ухудшая свое положение внутри страны (с учетом той негативной реакции, которую повлекла за собой встреча Виктора Казанцева и представителя Аслана Масхадова Ахмеда Закаева), либо вступить в полемику с Вашингтоном, легитимизировав, таким образом, процесс свертывания заявленных после 11 сентября механизмов сотрудничества.
Очевидно, что прекращение давления на Москву по чеченскому вопросу после террористических актов 11 сентября со стороны западных государств и, прежде всего, США носило временный характер. После решения основных задач по созданию обеспечивающей инфраструктуры на территории постсоветских государств Центральной Азии, для чего требовался нейтралитет со стороны России, оно было возобновлено. Известное заявление государственного департамента США по поводу операции федеральных сил в Аргуне, степень жесткости которого совершенно не соответствовала реальному масштабу события, продемонстрировало, что для США был важен только повод для обозначения темы Чечни в качестве важнейшего инструмента информационного взаимодействия с Россией. Тем более маловероятно, чтобы Запад допустил продолжение давления со стороны России на Грузию. Такой поворот ситуации ставит российское руководство – на фоне сохраняющейся публичной легитимности Аслана Масхадова – перед сложной дилеммой. Либо начать, как минимум, имитировать переговорный процесс, ухудшая свое положение внутри страны (с учетом той негативной реакции, которую повлекла за собой встреча Виктора Казанцева и представителя Аслана Масхадова Ахмеда Закаева), либо вступить в полемику с Вашингтоном, легитимизировав, таким образом, процесс свертывания заявленных после 11 сентября механизмов сотрудничества.
В-третьих, можно говорить и об отсутствии возможностей осуществлять крупные финансовые расходы, направленные на восстановление социально-экономической сферы Чечни. Это связано с усилением общей напряженности в экономической ситуации в стране и ухудшением бюджетной ситуации, что потребовало изменения механизмов обеспечения лояльность той части чеченской элиты, которая пошла на союз с Москвой в 1999 году. В перспективе это может иметь политический эффект. Хотя пока вопрос о чеченской дани не фигурирует в информационном обороте, его наличие подразумевалось при обсуждении вопроса о формировании бюджета на 2002 год в Государственной Думе. В современных условиях вопрос о расходовании средств, выделяемых на обеспечение лояльности Чечни в той или иной форме, становится политическим, поскольку может исключительно легко послужить запалом крупного коррупционного скандала, особенно, будучи спаренным ситуацией неясности относительно стратегических планов российского руководства. Прямым результатом усложнения ситуации в финансово-экономической сфере является организационноепровисание правительства Чечни, которое стало совершенно очевидным в декабре 2001 года, однако признаки которого обозначились еще летом. Фактически, правительство Чечни во главе со Станиславом Ильясовым стало распорядительным органом, утрачивающим контроль над финансовыми потоками. Естественным результатом такого развития событий может стать утрата правительством своего нынешнего статуса как института, относительно автономного от администрации Ахмада Кадырова. Тем более что дублирование функций между Станиславом Ильясовым, Владимиром Елагиным и соответствующими аппаратами становится очевидным.
Прямым результатом усложнения ситуации в финансово-экономической сфере является организационноепровисание правительства Чечни, которое стало совершенно очевидным в декабре 2001 года, однако признаки которого обозначились еще летом. Фактически, правительство Чечни во главе со Станиславом Ильясовым стало распорядительным органом, утрачивающим контроль над финансовыми потоками. Естественным результатом такого развития событий может стать утрата правительством своего нынешнего статуса как института, относительно автономного от администрации Ахмада Кадырова. Тем более что дублирование функций между Станиславом Ильясовым, Владимиром Елагиным и соответствующими аппаратами становится очевидным.
В-четвертых, в качестве важнейшего фактора, определяющего обстановку, надо отметить сохранение, несмотря на определенные усилия федеральных властей, источников для подпитки сепаратистов финансами и людскими ресурсами, главным из которых является отсутствие признаков появления в Чечне механизмов экономического саморазвития и отраслей экономики в традиционном понимании этого термина. Несмотря на несколько ранее заявленных программ по расширению числа рабочих мест, наиболее привлекательными отраслями чеченской экономики на протяжении всего 2001 года оставались незаконные операции с нефтепродуктами и торговля. Коммерческая основа военной активности сепаратистов стала наиболее очевидна в ходе минной войны в Чечне в августе–октябре 2001 года. При этом показательно, что Москва так и не смогла найти эффективные средства противодействия минным постановкам на коммерческой основе. Причем ситуация имела тенденцию к еще большему усложнению, поскольку во второй половине 2001 года в республике начался масштабный передел сфер влияния в нефтяном бизнесе, в результате которого произошла определенная централизация процесса добычи и переработки нефти, а также системы торговли нефтепродуктами. В результате, значительное число жителей республики, которое ранее занималось незаконным нефтяным промыслом, осталось без средств к существованию и оказалось вынуждено идти на заработки к боевикам, поскольку альтернативных возможностей зарабатывания денег федеральные власти предложить не смогли.
Несмотря на несколько ранее заявленных программ по расширению числа рабочих мест, наиболее привлекательными отраслями чеченской экономики на протяжении всего 2001 года оставались незаконные операции с нефтепродуктами и торговля. Коммерческая основа военной активности сепаратистов стала наиболее очевидна в ходе минной войны в Чечне в августе–октябре 2001 года. При этом показательно, что Москва так и не смогла найти эффективные средства противодействия минным постановкам на коммерческой основе. Причем ситуация имела тенденцию к еще большему усложнению, поскольку во второй половине 2001 года в республике начался масштабный передел сфер влияния в нефтяном бизнесе, в результате которого произошла определенная централизация процесса добычи и переработки нефти, а также системы торговли нефтепродуктами. В результате, значительное число жителей республики, которое ранее занималось незаконным нефтяным промыслом, осталось без средств к существованию и оказалось вынуждено идти на заработки к боевикам, поскольку альтернативных возможностей зарабатывания денег федеральные власти предложить не смогли.
На этом фоне важнейшим фактором, который будет определять развитие ситуации в Чечне на обозримую перспективу будет являться конституционный процесс, который был инициирован Бесланом Гантамировым, но который получил существенную поддержку и со стороны своего политического конкурента Ахмада Кадырова, и со стороны федеральных органов власти. Согласие Ахмада Кадырова и его окружения присоединиться к конституционному процессу, по всей видимости, связано с их опасениями относительно того, что Кремль в процессе переговоров с представителями Аслана Масхадова вполне может пожертвовать нынешней чеченской элитой, которая с формальной точки зрения оказалась совершенно нелегитимизирована. Процесс создания новой Конституции Чечни не только создаст пророссийской части чеченской элиты новую легитимность, которая будет в качественном отношении совершеннее существующей легитимности Аслана Масхадова. Конституционный процесс поставит представителей основных кланов и общественно-политических групп перед простой и понятной дилеммой: либо пытаться своими действиями подкреплять легитимность прежней (после августа 1996 года, а в генетическом отношении – дудаевской) чеченской государственности с сомнительными перспективами трансформации такой деятельность в понятные политические и экономические дивиденды, либо начать процесс встраивания в формирующуюся обновленную чеченскую государственность (которая будет обновлена и фактически, и формально – показательно, что очень большое значение уделяется смене государственной символики), и, таким образом, получить, возможно, доступ к определенным экономическим ресурсам.
Можно с уверенностью говорить о том, что конституционный процесс в Чечне, который мыслился первоначально как вспомогательное мероприятие, становится сейчас важнейшим фактором политической жизни республики. Если Ахмаду Кадырову и Беслану Гантамирову удастся, с одной стороны, обеспечить участие в процессе обсуждения максимально широкого круга лиц с точки зрения представляемых ими тейповых и клановых групп, а с другой, обеспечить конструктивное участие в данном процессе диаспоры, то их реальная легитимность – даже, если конституционный процесс в обозримой перспективе останется процессом без результата – станет выше, нежели у Аслана Масхадова. Однако, в таком случае Кремлю придется быть более кооперативным по отношению к своим союзникам и такие политические маневры, как переговоры с представителями Аслана Масхадова без учета мнения администрации Чечни, станут невозможными. Таким образом, местная администрация приобретает дополнительные факторы устойчивости и даже определенную политическую автономность от Москвы.
Военная ситуация
С военной точки зрения положение российских войск представляется довольно стабильным, во всяком случае никаких признаков масштабной дестабилизации обстановки в ключевых районах Чечни на сегодняшний день не отмечается. Российской группировки к концу 2001 года удалось наладить систему рейдовых (поисковых) мероприятий в предгорных районах Чечни и ограничить свободу маневра ведущих полевых командиров, прежде всего, Шамиля Басаева, Хаттаба, Руслана Гелаева и Вахи Арсанова. Также заметным успехом федеральных сил (хотя значительный вклад внесла и активность местных властей) является разрушение в ряде регионов системы ваххабитских джамаатов (что выразилось в уничтожении довольно большого количества их руководителей), которые не просто были средством координации в действиях боевиков, но и выполняли функции альтернативного центра власти. Региональные проявления этого центра власти по своей реальной влиятельности в начале Второй чеченской войны в ряде мест (например, во Веденском районе или в Урус-Мартане) превосходили созданные при участии федеральных сил местные органы власти.
Очевидная стабилизация военной обстановки и отсутствие, за редким исключением, попыток силовых демонстраций со стороны боевиков (за исключением неудачной операции по установлению частичного контроля над Гудермесом) связаны, во многом со стратегией руководства боевиков на сохранение в неприкосновенности костяка вооруженных формирований, который составляют профессиональные бойцы и наемники. Это предопределило активное использование в операциях против российских войск массовки из числа местных жителей, пришедших к боевикам на идейной, родовой (через механизм кровной мести) или коммерческой основе. И именно массовка, в силу меньшего уровня военного профессионализма и худшей организованности, понесла наиболее значительные потери в ходе летней и осенней кампаний 2001 года. В силу этого обстоятельства оказались нарушенными традиционные связи между боевиками и местными авторитетами, которые обеспечивали устойчивость функционирования инфраструктуры обеспечения для боевиков. Именно с этим следует связывать масштабную политику личного террора в отношении представителей местных органов власти со стороны боевиков, которая обозначилась начиная с июня 2001 года. Тогда как раньше основные усилия тратились на обеспечение максимального контроля над кадровым наполнением местных администраций, которые в ряде регионов Чечни, например, в Веденском и Курчалоевском районах, практически полностью контролировались сепаратистами, а значит, не возникало никакой потребности в осуществлении личного террора в отношении местных руководителей. Напротив, боевики были даже заинтересованы в создании условий для демонстрации видимости успешности функционирования местных органов власти. В особенности это проявлялось в 2000–2001 годах применительно к местным органам власти в Веденском районе. Теперь такое положение меняется.
Именно с этим следует связывать масштабную политику личного террора в отношении представителей местных органов власти со стороны боевиков, которая обозначилась начиная с июня 2001 года. Тогда как раньше основные усилия тратились на обеспечение максимального контроля над кадровым наполнением местных администраций, которые в ряде регионов Чечни, например, в Веденском и Курчалоевском районах, практически полностью контролировались сепаратистами, а значит, не возникало никакой потребности в осуществлении личного террора в отношении местных руководителей. Напротив, боевики были даже заинтересованы в создании условий для демонстрации видимости успешности функционирования местных органов власти. В особенности это проявлялось в 2000–2001 годах применительно к местным органам власти в Веденском районе. Теперь такое положение меняется.
В то же время, географическая локализация военно-силовой нестабильности в основной период ведения боевых действий (весна–осень) осталась прежней. В основном организованные на постоянной основе боевые группировки сепаратистов действуют в Веденском, Шатойском, Шаройском и Курчалоевском районах республики, а также в районе городов Аргун и Урус-Мартан. То есть именно там, где находились центры сопротивления федеральным войскам и в период Первой чеченской войны, и в начале нынешней контртеррористической операции. Иными словами, несмотря на значительные усилия федеральным войскам так и не удалось разрушить инфраструктуру базирования и тылового обеспечения боевиков, поскольку – и это проявляется в особенности в зимний период – боевые действия ведутся сепаратистами преимущественно не в районе наиболее политически и военно приоритетных целей (где операции осуществляются методами рейдов, как например, в Грозном, Шали или Гудермесе), а местах наиболее комфортного пребывания и облегченной организации отхода после осуществления той или иной операции. Особенно чувствительным данное обстоятельство оказывается применительно к Урус-Мартану, в котором у боевиков имеется и значительная идеологическая поддержка.
В основном организованные на постоянной основе боевые группировки сепаратистов действуют в Веденском, Шатойском, Шаройском и Курчалоевском районах республики, а также в районе городов Аргун и Урус-Мартан. То есть именно там, где находились центры сопротивления федеральным войскам и в период Первой чеченской войны, и в начале нынешней контртеррористической операции. Иными словами, несмотря на значительные усилия федеральным войскам так и не удалось разрушить инфраструктуру базирования и тылового обеспечения боевиков, поскольку – и это проявляется в особенности в зимний период – боевые действия ведутся сепаратистами преимущественно не в районе наиболее политически и военно приоритетных целей (где операции осуществляются методами рейдов, как например, в Грозном, Шали или Гудермесе), а местах наиболее комфортного пребывания и облегченной организации отхода после осуществления той или иной операции. Особенно чувствительным данное обстоятельство оказывается применительно к Урус-Мартану, в котором у боевиков имеется и значительная идеологическая поддержка. А главное, который занимает, по сути, ключевое географическое положение в Чечне.
А главное, который занимает, по сути, ключевое географическое положение в Чечне.
Последнее обстоятельство представляется исключительно важным. Это связано с тем, что с учетом существенного сокращения количественного силового потенциала боевиков, перед ними на 2002 год встает задача добиться консолидации своего влияния и присутствия в ключевых в экономическом и политическом отношении точках Чечни, что даст возможность компенсировать частичную утрату позиций в горных районах республики и сокращение возможностей финансовой подпитки. Действительно, если в ряде ключевых точек республики (которые определены на практике уже довольно давно: Урус-Мартан, Алханкала, Аргун, Шатой и Шаро-Аргунское ущелье, а также некоторые другие населенные пункты, расположенные вдоль экономически приоритетной трассы Ростов-Баку) будет создан стабильно функционирующий режим день-ночь, у боевиков не будет принципиальных сложностей с получением контроля над существенными экономическими ресурсами. Таким образом, потенциальное содержание весенне-летней кампании 2002 года вполне может оказаться связанным с формированием новых условий для функционирования военной системы боевиков, которая будет, прежде всего, выражаться в смене основных очагов ведения боевых действий, на более экономически перспективные. Однако зимняя кампания 2001–2002 годов приобретает в этой связи большое значение как период, в ходе которого для боевиков принципиально важно закрепиться в указанных опорных точках, а по возможности, – и легализоваться.
Таким образом, потенциальное содержание весенне-летней кампании 2002 года вполне может оказаться связанным с формированием новых условий для функционирования военной системы боевиков, которая будет, прежде всего, выражаться в смене основных очагов ведения боевых действий, на более экономически перспективные. Однако зимняя кампания 2001–2002 годов приобретает в этой связи большое значение как период, в ходе которого для боевиков принципиально важно закрепиться в указанных опорных точках, а по возможности, – и легализоваться.
Показательно, однако, что многие действия федерального командования в ходе зимней 2001–2002 годов кампании носят имиджевый характер. Это особенно проявляется при анализе информационного потока о событиях в Чечне, в котором сообщалось об успехах федеральных войск в октябре–ноябре (то есть в период, когда происходил активный процесс перехода боевиков на зимние квартиры), когда имелись наиболее благоприятные возможности для нейтрализации профессиональной части боевиковпо частям. В действительности, успехи российских войск ограничились отстрелом нескольких полевых командиров среднего звена и организацией сдачи в плен нескольких малочисленных отрядов, оказавшихся без финансовой подпитки и вне основной сети управления боевиков. Это, естественно, вызвало раздражение политического руководства страны, которое уже информационно позиционировало зимнюю кампанию 2001–2002 годов, как период, после которого ситуация перейдет окончательно в классическое русло вялотекущей партизанской борьбы без единого центра у боевиков. В результате, федеральное командование было вынуждено пойти на крупные мероприятия в Курчалоевском районе, Аргуне и Шали, хотя, по всей видимости, реальный масштаб событий был меньше заявляемого в печати. В особенности это касается операции в Аргуне. А главное, большие сомнения вызывает версия руководства федеральной группировки о применении тактики заманивания в отношении боевиков.
В действительности, успехи российских войск ограничились отстрелом нескольких полевых командиров среднего звена и организацией сдачи в плен нескольких малочисленных отрядов, оказавшихся без финансовой подпитки и вне основной сети управления боевиков. Это, естественно, вызвало раздражение политического руководства страны, которое уже информационно позиционировало зимнюю кампанию 2001–2002 годов, как период, после которого ситуация перейдет окончательно в классическое русло вялотекущей партизанской борьбы без единого центра у боевиков. В результате, федеральное командование было вынуждено пойти на крупные мероприятия в Курчалоевском районе, Аргуне и Шали, хотя, по всей видимости, реальный масштаб событий был меньше заявляемого в печати. В особенности это касается операции в Аргуне. А главное, большие сомнения вызывает версия руководства федеральной группировки о применении тактики заманивания в отношении боевиков.
Однако очевидно, что полноценного механизма выявления и нейтрализации боевиков, которые уже проникли в крупные населенные пункты и смогли там частично легализоваться на основе семейных и родовых связей, у федерального командования нет. И главный вопрос, насколько удастся создать такую ситуацию, когда возвращение весной к активное боевой деятельности станет, с их точки зрения, бесперспективным. А это требует активного сочетания силовых средств и, прежде всего, разрушения остатков системы централизованного управления крупными и средними отрядами, и социально-экономических действий, то есть формирование более перспективных направлений для самореализации особенно в том, что касается молодежи. Естественным элементом такой политики является и полная делегитимизация основных лидеров боевиков, включая их физическое устранение, что потребует от Москва, помимо принятия чисто военных решений, и разработки новой экономической стратегии. В противном случае, даже те относительно скромные достижения, которые были получены в результате кампании 2001 года, могут быть утрачены.
И главный вопрос, насколько удастся создать такую ситуацию, когда возвращение весной к активное боевой деятельности станет, с их точки зрения, бесперспективным. А это требует активного сочетания силовых средств и, прежде всего, разрушения остатков системы централизованного управления крупными и средними отрядами, и социально-экономических действий, то есть формирование более перспективных направлений для самореализации особенно в том, что касается молодежи. Естественным элементом такой политики является и полная делегитимизация основных лидеров боевиков, включая их физическое устранение, что потребует от Москва, помимо принятия чисто военных решений, и разработки новой экономической стратегии. В противном случае, даже те относительно скромные достижения, которые были получены в результате кампании 2001 года, могут быть утрачены.
Вместо заключения
Безусловно, на сегодняшний день ситуация в Чечне не предполагает возникновения каких-то острых кризисных моментов. При всем том, что боевики продолжают фактически контролировать значительную часть горных районов, а в большинстве предгорных районов сохраняется режим день-ночь, потенциал боевиков уже недостаточен для того, чтобы осуществлять или даже угрожать осуществлением крупных акций, которые могут существенно изменить расстановку сил в Чечне. Более того, существенным достижением федеральных сил является сокращение возможностей боевиков оказывать дестабилирующее воздействие на силовую обстановку в сопредельных российских регионах (примером чему является относительно спокойное проведение выборов в Кабардино-Балкарии, которая ранее считалась подверженной ваххабитскому влиянию). В то же время, можно отметить странное противоречие в поведении российского федерального руководства. В настоящее время, нет никаких внутренних факторов, которые бы обуславливали необходимость развития переговорного процесса с лидерами боевиков. Российское общественное мнение пока довольно спокойно относится к продолжению боевых действий, более того, проявило свое негативное отношение к попыткам прозондировать возможность примирения с боевиками на основе признания легитимности Аслана Масхадова.
При всем том, что боевики продолжают фактически контролировать значительную часть горных районов, а в большинстве предгорных районов сохраняется режим день-ночь, потенциал боевиков уже недостаточен для того, чтобы осуществлять или даже угрожать осуществлением крупных акций, которые могут существенно изменить расстановку сил в Чечне. Более того, существенным достижением федеральных сил является сокращение возможностей боевиков оказывать дестабилирующее воздействие на силовую обстановку в сопредельных российских регионах (примером чему является относительно спокойное проведение выборов в Кабардино-Балкарии, которая ранее считалась подверженной ваххабитскому влиянию). В то же время, можно отметить странное противоречие в поведении российского федерального руководства. В настоящее время, нет никаких внутренних факторов, которые бы обуславливали необходимость развития переговорного процесса с лидерами боевиков. Российское общественное мнение пока довольно спокойно относится к продолжению боевых действий, более того, проявило свое негативное отношение к попыткам прозондировать возможность примирения с боевиками на основе признания легитимности Аслана Масхадова. Но внешние условия, в частности, стратегия активного сближения с Западом, анонсированная Владимиром Путиным после 11 сентября 2001 года, требует форсированного изъятия из оборота фактора Чечни как источника трений между Россией и западными странами. Таким образом, можно ожидать, что вопрос о необходимости ведения или хотя бы убедительной имитации ведения переговорного процесса, будет так или иначе возникать в ближайшем будущем.
Но внешние условия, в частности, стратегия активного сближения с Западом, анонсированная Владимиром Путиным после 11 сентября 2001 года, требует форсированного изъятия из оборота фактора Чечни как источника трений между Россией и западными странами. Таким образом, можно ожидать, что вопрос о необходимости ведения или хотя бы убедительной имитации ведения переговорного процесса, будет так или иначе возникать в ближайшем будущем.
Главная концептуальная проблема российской политики в Чечне заключается в том, что Москва пока так и не смогла выбрать стратегическую модель, по которой она будет обеспечивать в дальнейшем нахождение Чечни под своим контролем. Принципиально вопрос стоял либо о восстановлении прежней системы организации чеченского общества по кланово-родовой модели (то есть через представительство в местных органах власти согласно тейповой принадлежности и вытеснение наиболее активных элементов за пределы республики), при которой конституционные органы власти республики играют вспомогательную, формальную роль. Или же решиться на разрушение тейповой системы организации общества, попытавшись выстроить в Чечне – безусловно, с определенным учетом местной специфики – некое подобие гражданского общества. В ходе первой чеченской войны Москва, видимо, тяготела к первому сценарию. Разрушение при деятельном участии Москвы тейповой структуры создало идейно-политический вакуум, в который и интегрировались радикальные исламисты, появление которых принципиально изменило сущность чеченского конфликта и создало дополнительную угрозу для влияния Москвы. Однако попытка восстановить тейповую структуру чеченского общества, во-первых, потребует существенных материальных затрат (что уже в частности проявилось в процессе осуществления мероприятий по восстановлению социальной сферы Чечни), аво-вторых, не гарантирует, что новые лидеры, которых выдвинет тейповая аристократия будут контролируемы. Конституционный процесс является своего рода паллиативом, направленным на то, чтобы заполнить политический вакуум, который на фоне активизации операций федеральных войск является весьма чувствительным.
Или же решиться на разрушение тейповой системы организации общества, попытавшись выстроить в Чечне – безусловно, с определенным учетом местной специфики – некое подобие гражданского общества. В ходе первой чеченской войны Москва, видимо, тяготела к первому сценарию. Разрушение при деятельном участии Москвы тейповой структуры создало идейно-политический вакуум, в который и интегрировались радикальные исламисты, появление которых принципиально изменило сущность чеченского конфликта и создало дополнительную угрозу для влияния Москвы. Однако попытка восстановить тейповую структуру чеченского общества, во-первых, потребует существенных материальных затрат (что уже в частности проявилось в процессе осуществления мероприятий по восстановлению социальной сферы Чечни), аво-вторых, не гарантирует, что новые лидеры, которых выдвинет тейповая аристократия будут контролируемы. Конституционный процесс является своего рода паллиативом, направленным на то, чтобы заполнить политический вакуум, который на фоне активизации операций федеральных войск является весьма чувствительным.
Однако отсутствие четких ориентиров для политики федерального центра и общественно понятных критериев для принятия тех или иных функционально значимых решений по ходу операции в Чечне (например, оснований для увеличения или сокращения численности группировки) может в ближайшее время стать политическим фактором. В условиях, когда уже обозначились контуры предвыборной кампании 2003–2004 годов, это становится опасным. Так что федеральный центр будет вынужден в той или иной степени изменить свою стратегию балансирования между различными вариантами продолжения присутствия в Чечне и различными группами в руководстве. Хотя возможность сохранения стратегической неясности относительно будущего Чечни останется.
Выходные данные cтатьи:
Вопросы безопасности, Том 6, Номер 2(116), Январь 2002
День памяти…
Тысячи солдат, офицеров и мирных жителей погибли за годы боевых действий на Северном Кавказе. Множество семей ощутили боль утраты своих близких – отцов, мужей, братьев, сыновей.
Множество семей ощутили боль утраты своих близких – отцов, мужей, братьев, сыновей.
11 декабря на Молодежной площади у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный Дню памяти погибших в Чеченской войне. Инициаторами проведения памятного мероприятия выступили ветеранская общественная организация «Боевое братство» и Ейское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана». Депутат Законодательного Собрания Сергей Белан вместе с представителями администраций, депутатских корпусов, участниками локальных воин, ветеранами боевых действий, матерями погибших солдат, кадровыми офицерами, представителями общественных организаций пришли сказать слова поддержки и благодарности родителям воинов-интернационалистов, а также почтить минутой молчания всех, кто ценой своей жизни выполнил долг перед Родиной.
Несмотря на то, что прошло много лет в памяти воинов и матерей, чьи сыновья воевали в горячих точках и с честью выполнили свой воинский долг до сих пор свяжи события того времени, те слезы, которые не сушит время, та боль, которая поселилась в сердцах матерей.
Общаясь с участниками той злополучной войны и родителями погибших 26 юных ейчан, которые по зову сердца идут сюда в этот памятный день парламентарий сказал «Каждый год мы приходим сюда, чтобы отдать дань памяти совсем молодым ребятам, которые выполняя свой долг, не пожалели своей жизни. Их имена, высеченные на мемориальных плитах — это имена простых ейчан, которые жили рядом с нами, и думаю, сами не предполагали, что станут героями. Но в переломный момент, когда от них потребовалось отдать все без остатка для исполнения воинского долга перед Родиной — они сделали это. Низкий поклон родителям за то, что воспитали правильных, настоящих людей. Вечная слава погибшим. Их мужество и доблесть будут примером для подрастающего поколения».
В заключение памятной встречи все присутствующие возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших в Чечне минутой молчания.
Разведчику, изувеченному на чеченской войне, пришлось доказывать, что он является участником боевых действий — Российская газета
Житель кубанского города Кореновска, изувеченный во время первой чеченской кампании, два года безуспешно пытался доказать в разных инстанциях свое участие в этой войне. Чиновников не убеждали ни документы, ни даже боевая государственная награда. И тогда солдат обратился в суд.
Чиновников не убеждали ни документы, ни даже боевая государственная награда. И тогда солдат обратился в суд.
Володю Деркачева призвали в погранвойска в 1994 году. Попал в часть, которая стояла в Бабаюртовском районе Дагестана. 30 декабря первый раз вступил в бой на мосту, соединяющем эту республику с Чечней.
Через два месяца заболел гепатитом, но от комиссования отказался. Службу продолжил на горной заставе в Ботлихском районе, где попросил перевести его в разведывательный взвод. 25 августа 1995 года старший стрелок Деркачев вместе с товарищами попал в устроенную боевиками засаду.
— Нас было 20 мальчишек, самый старший — командир, которому только что исполнилось 22 года. А у противника человек раз в десять больше, — вспоминает солдат. — Бой шел с восьми утра до глубокой ночи. Многие ребята погибли, но никто не отступил. Потом все-таки подоспело подкрепление.
Для кубанца начались скитания по врачам. Букет медицинских диагнозов звучал поначалу как не подлежащий обжалованию смертельный приговор: тяжелая осколочная травма левой теменной области головы, ушиб головного мозга, нарушение зрения. Но парень выкарабкался. В госпитале узнал, что за отвагу его представили к государственной награде — ордену Мужества.
Но парень выкарабкался. В госпитале узнал, что за отвагу его представили к государственной награде — ордену Мужества.
Первый неприятный сюрприз ожидал на приеме у врача в родном Кореновске. Молодой доктор недвусмысленно намекнул: за соответствующее вознаграждение может оформить инвалидность любой группы. Только через несколько лет Владимир узнал, что этого горе-эскулапа все-таки уволили.
— Но в тот день хлопнул дверью и больше за льготами никуда не обращался, — говорит солдат. — После долгого лечения почувствовал себя лучше, да и унижаться больше не хотелось. Стал даже задумываться о продолжении военной карьеры. Казалось, все испытания позади, я снова полон сил. И так будет всегда.
Однако потом предсказания врачей стали сбываться: пошли жестокие головные боли, другие проблемы со здоровьем. Оказалось, к военному госпиталю он прикрепиться не имеет права. А чтобы получать положенные участникам боевых действий льготы — ежемесячную пенсию, пятидесятипроцентную скидку на оплату коммунальных услуг и многие другие, — нужно иметь соответствующую «корочку».
В 2007 году Деркачев отправился в Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны. И вернулся ни с чем. Отказ там обосновали «законодательными сложностями». Позже руководитель управления объяснит причину: в приложении к Закону «О ветеранах» территория Республики Дагестан как зона вооруженного конфликта до сих пор не значится.
— Вот если бы инвалид получил свои ранения на территории Чечни, а не на ее границе — дело другое, — разводили руками во всех инстанциях.
И тогда отфутболенный повсюду чиновниками орденоносец обратился в Советский районный суд города Краснодара.
Служители Фемиды послали запросы в соответствующие органы, где подтвердили: орден у Владимира настоящий. Нашлась и копия справки из войсковой части, которую заверил отдел управления кадров погранслужбы. В ней содержались важные строчки о том, что тяжелую травму головы и проникающее осколочное ранение солдат «получил во время боевого столкновения в период выполнения задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике». В этом же документе черным по белому было написано: считать Деркачева выполняющим задачи в условиях вооруженного конфликта на основании приказа командира военной части 3810 N 192 от 30 июня 1995 года.
В этом же документе черным по белому было написано: считать Деркачева выполняющим задачи в условиях вооруженного конфликта на основании приказа командира военной части 3810 N 192 от 30 июня 1995 года.
Районный суд посчитал исковое заявление Владимира Деркачева обоснованным, а его гражданские права — нарушенными. И судья Валерий Мурсалов, ссылаясь на статью 258 Гражданского процессуального кодекса, вынес решение: обязать Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны выдать ему удостоверение ветерана боевых действий.
Вроде бы в этой истории можно поставить точку. Но делать этого совсем не хочется. И вот по какой причине. В положении Деркачева сегодня находятся многие тысячи героев локальных войн.
До сих пор официально не признаны участниками боевых действий, к примеру, военнослужащие, сражавшиеся на таджикско-афганской границе в начале 90-х годов. Эта военная операция, как и некоторые другие, тоже, оказывается, «выпала» из приложения к Федеральному закону «О ветеранах». А именно данный документ на сегодняшний день официально определяет территории, которые можно считать зонами боевых действий.
А именно данный документ на сегодняшний день официально определяет территории, которые можно считать зонами боевых действий.
Получается, орденоносцам надо целыми полками идти в суд? Но и тут не все просто. Счастливый финал в деле кубанского разведчика, похоже, может и не стать прецедентом. Просто в этом деле есть один немаловажный нюанс. Трудно сказать, как легли бы юридические козыри, если бы судья Валерий Мурсалов не оказался бывшим афганцем. Сам на войне получил тяжелое ранение и в свое время так же обивал пороги чиновников.
— Нужно пересмотреть приложение к Федеральному закону «О ветеранах», — обозначили свою точку зрения в Черноморско-Азовском пограничном управлении береговой охраны. — Мы ведь тоже оказываемся в неловком положении, но правовых оснований для выдачи удостоверений в подобных случаях у нас нет. Документ можем оформить только на основании решения суда.
Исправление подобных недоразумений Владимир Деркачев считает задачей государственной важности:
— Когда о таких, как моя собственная, судебных тяжбах узнают родители будущих солдат, ни один рекламный ролик не поможет собрать стопроцентный призыв. ..
..
Преступления не простить. Полина Жеребцова – к 25-летию Чеченской войны
Я сохраняю память о войне в Чеченской Республике всеми силами: ищу и публикую письма людей, их записки и дневники, потому что хорошо знаю, что голоса подлинных свидетелей заглушаются пропагандой и такими «экспертами», кто был у нас на войне проездом всего несколько дней.
В девять лет начав писать личный дневник, я не могла предположить, что моя проза и стихи будут переведены более чем на двадцать языков мира. Ребенок с чистым сердцем просто фиксировал происходящее. Я находилась над схваткой, вне грязи войны, меня спасали молитвы, йога и литература: любимым героем был педагог и писатель Януш Корчак, и в отрочестве я часто спрашивала себя: смогла бы поступить, как он? Представляла ситуацию, в которой фашист (узнав знаменитого писателя) пытается избавить его от мучительной смерти, но это цена подлости, и нужно оставить воспитанников детского дома одних в газовой камере. «О, Всевышний, не дай мне струсить и опозориться перед Тобой!» – просила я и каждый раз, обливаясь слезами, мысленно заходила в камеру вместе с воспитанниками детского дома.
«О, Всевышний, не дай мне струсить и опозориться перед Тобой!» – просила я и каждый раз, обливаясь слезами, мысленно заходила в камеру вместе с воспитанниками детского дома.
В Чеченский дневник пришла война: голод, холод, бытовые распри, бомбежки, расстрелы, страдания всех жителей республики на войне вне зависимости от религии и национальности (в начале первой чеченской войны в Грозном проживали 300 000 русских людей), геройство, подлость, вера, традиции, притчи и вещие сны. Под бомбами мирные жители страдали все вместе. И тысячи убитых в Чечне детей – это чеченские, русские, ингушские дети и дети других народов. У нас целыми кварталами в Грозном жили цыгане, болгары, евреи, аварцы, кумыки… Для меня кощунственно звучит фраза о том, что пострадал какой-то один народ. Бомбы и пули не спрашивают национальность. Правильно говорить, что пострадали «все жители многонациональной республики», и никак иначе.
К обычным страданиям войны нечеченцы после первой войны оказались еще и между двух огней: по месту рождения они были чеченцами для россиян, а местные националисты активно принялись их убивать, грабить, захватывать уцелевшие квартиры и дома, оправдывая свои действия мщением Москве. Об этом не принято говорить ни в России, ни в Чечне. Этих людей просто забыли в общем потоке многочисленных жертв. А я всё помню. Я очень неудобный свидетель как для одних преступников, так и для других. Были всегда достойные ингуши и чеченцы, которые, рискуя своими жизнями, пытались спасти наших русских земляков от страшной участи. Кстати, местные мародеры и бандиты, поднявшиеся как пена со дна, не собирались сражаться с российскими военными, им легче было напасть на условную бабу Машу из соседнего подъезда.
Об этом не принято говорить ни в России, ни в Чечне. Этих людей просто забыли в общем потоке многочисленных жертв. А я всё помню. Я очень неудобный свидетель как для одних преступников, так и для других. Были всегда достойные ингуши и чеченцы, которые, рискуя своими жизнями, пытались спасти наших русских земляков от страшной участи. Кстати, местные мародеры и бандиты, поднявшиеся как пена со дна, не собирались сражаться с российскими военными, им легче было напасть на условную бабу Машу из соседнего подъезда.
Несмотря на рознь, которую спровоцировала война, Грозный до середины нулевых оставался многонациональным городом. В январе 2000 года, когда российские военные пугали нас расстрелом (потом они сказали, что пошутили), у обрыва стояли две русские семьи, одна чеченка, одна даргинка, баба Нина русско-украинских кровей, бабушка Стася, белоруска, я и мама (многонациональная семья) и мальчик, у которого мать была русской, а отец ингуш.
Постепенно в России приходит осознание, что эту страшную войну, длившуюся много лет, следует переосмыслить. Но это осложняется официальной лживой пропагандой и мифами тех, кто либо прикрывает военные преступления, либо первым сбежал из республики и не имеет никакого отношения к реально пострадавшим. Для того чтобы понять произошедшее, нужно отринуть «правду одной стороны» и погрузиться в воспоминания очевидцев – мирных жителей. Я советую прочитать воспоминания Султана Яшуркаева «Царапины на осколках», «Воспоминание о Грозном. Чтобы помнили» Валентины Белоусовой, дневник Мадины Эльмурзаевой 1995 года и «Грозненские рассказы» Константина Семёнова.
Но это осложняется официальной лживой пропагандой и мифами тех, кто либо прикрывает военные преступления, либо первым сбежал из республики и не имеет никакого отношения к реально пострадавшим. Для того чтобы понять произошедшее, нужно отринуть «правду одной стороны» и погрузиться в воспоминания очевидцев – мирных жителей. Я советую прочитать воспоминания Султана Яшуркаева «Царапины на осколках», «Воспоминание о Грозном. Чтобы помнили» Валентины Белоусовой, дневник Мадины Эльмурзаевой 1995 года и «Грозненские рассказы» Константина Семёнова.
Очень верно сказала журналист и правозащитник Лидия Графова: «Это преступление, которое никогда не простится». Когда чудом выжившие под бомбами, среди хаоса и руин, добирались до мирных районов России, они не находили никакой помощи от государства: ни еды, ни жилья, ни одежды, ни пособий. Ночевали на улице, замерзали в подъездах и впадали в депрессию от многократного предательства. Ингуши и чеченцы не бросают своих самых дальних родственников: имея дом в мирном регионе, они всегда старались помочь. Всем остальным пришлось хуже, им помощи было ждать неоткуда.
Всем остальным пришлось хуже, им помощи было ждать неоткуда.
Полина Жеребцова – писатель-документалист, художник
Высказанные в рубрике «Блоги» мнения могут не отражать точку зрения редакции
Радио «Cвобода»
25 лет. Чеченская война глазами журналистов — с Павлом Лобковым и Вячеславом Измайловым
Катерина Гордеева: Добрый вечер, здравствуйте. 11 декабря будет 25 лет с момента ввода войск в Чечню, того, что потом назовут первой чеченской кампанией. А на самом деле — первой чеченской войной. Вячеслав Измайлов, Павел Лобков. Мы поговорим о Чечне.
У меня есть предположение, что всё, что потом было, — и взрывы домов, и «Норд-Ост», и Беслан, — это сиквел, а приквелом была первая чеченская война.
11 декабря были введены войска. Что предшествовало этому? Вячеслав Измайлов, майор, журналист. Вы были до этого в Чечне?
Вячеслав Измайлов: Нет, я в Чечню попал в 95 году, и то, что вы говорите, что предшествовало событиям 11 декабря, — предшествовали события, которые через три дня будут отмечаться, 26 ноября, когда под видом оппозиции в Чечню вошли танки, БТРы, на которых сидели военнослужащие Кантемировской и Таманской дивизий.
Министерство обороны к этому не имело никакого отношения, а имела отношение ФСК Москвы и ФСК России.
К. Гордеева: ФСК — это Федеральная служба контрразведки.
В. Измайлов: Да, тогда это предшественник ФСБ. И, видимо, этим ребятам сказали так. Учения ведь никакие не проводились. Единственный опыт у них был в 93 году, в сентябре месяце — по расстрелу здания Верховного Совета России. Молодые лейтенанты. Зарплату в армии тогда платили с задержкой. И они на танках… Ну, сказали им, видимо, что зайдёте, и все разбегутся. В Прагу зашли в 68 году — разбежались все, в Будапешт вошли в 56 году — тоже разбежались, и здесь разбегутся. Но Чеченцы не разбежались, и вот эти события предшествовали событиям 11 декабря.
Павел Лобков: Я был в Чечне, наверное, не больше, столько же с 91 года. Фактически в ноябре 91 года, когда был так называемый ОКЧН, Конгресс чеченского народа, который вышел одновременно из Российской Федерации и из Советского Союза. И страшно интересный был, конечно, персонаж Дудаев. Мне тогда было 24 года, мне вообще интересны были романтические персонажи. Знаете, такой Че Гевара, не Че Гевара, чёрт его знает. Латиноамериканский генерал типичный, конечно, с усиками. В Тарту он хорошо отличился — единственный генерал-чеченец, прекрасно говоривший по-русски.
Мне тогда было 24 года, мне вообще интересны были романтические персонажи. Знаете, такой Че Гевара, не Че Гевара, чёрт его знает. Латиноамериканский генерал типичный, конечно, с усиками. В Тарту он хорошо отличился — единственный генерал-чеченец, прекрасно говоривший по-русски.
К. Гордеева: Он генеральское звание получил за службу в Афганистане, если я правильно понимаю?
П. Лобков: Он генеральское звание получил после Афганистана. Вообще это был командир дивизии стратегических бомбардировщиков, которые находились в Тарту. Там 5-километровая полоса гигантская. Сейчас там авторынок, как я понимаю, потому что никому не нужна в Эстонии 5-километровая полоса, там нет таких самолётов, естественно, там кукурузники.
И там гигантская полоса — это был главный подлётный аэродром для того, чтобы бомбить НАТО, что называется, в течение 20 минут. И там были и ядерные самолёты, там были Ту-95 или Ту-160.
Короче говоря, это был человек абсолютно системный. Понятно, что он прошёл все возможные и невозможные проверки. У человека бомбы — просто бомбы, ядерные бомбы.
У человека бомбы — просто бомбы, ядерные бомбы.
К. Гордеева: То есть он был советский генерал.
В. Измайлов: Я служил в Таллине в 87-м после Афганистана и был в Тарту. Я был заместителем командира инженерно-саперного батальона, и мои ребята рыли капониры. Мне говорили, что командир дивизии — чеченец. Это было в 89 году. И я даже подумал, как — чеченец? И гордость у меня была, что командир дивизии стратегической авиации — чеченец.
П. Лобков: История Дудаева началась в 87 году, история его политического развития, когда впервые Эстония заявила очень мощно о том, что она хочет выйти. Тогда, помните, поднимался первый вопрос о протоколах Молотова-Риббентропа. И написана была Конституция Эстонии, которая не была, конечно, никем принята, но она была написана профессорами Тартуского университета, как ни странно, учениками Лотмана — практически передрана была с последней Конституции 39 года. И Конституцию Чечни 91 года писали эстонцы, друзья Дудаева.
Он дружил с кучей профессоров Тартуского университета и вообще был интеллектуалом, в городе страшно популярным. Это уже когда Дудаева убили, мы поехали в Эстонию и стали раскручивать про этот его эстонский период жизни, собственно, кто он такой. То есть он-то был генерал образца царских кавказских генералов, Багратиони, но только чеченский. Вдруг у этого Багратиони оказывается в кармане Грузия. А оказывается, ему просто принесли на блюдце Чечню. Это были совершенно другие люди.
Это уже когда Дудаева убили, мы поехали в Эстонию и стали раскручивать про этот его эстонский период жизни, собственно, кто он такой. То есть он-то был генерал образца царских кавказских генералов, Багратиони, но только чеченский. Вдруг у этого Багратиони оказывается в кармане Грузия. А оказывается, ему просто принесли на блюдце Чечню. Это были совершенно другие люди.
Всё началось в 91 году. И, конечно, Министерство обороны было абсолютно не готово ни к чему. Потому что, когда мы снимали в ноябре, мы застали прямо в черте города танковую часть. Там танки и бэтээры стояли, и наши солдаты засыпали сахар в бензобаки, потому что эвакуировать эту технику они не могли никаким образом. И чтобы хоть как-то немножко испортить жизнь тем, кому она достанется, — а желающих там был весь город… Они депутата Верховного Совета чеченского выкинули из окна, — ну, с гор спустились ребята. Глава комиссии по правам человека ездил в фиолетовом «порше» с московскими номерами. У него папаха не помещалась, потому что порше-911 низкий, и, когда он садился в «порше», сносило это папаху. Потом забирал её обратно, захлопывал дверь и несся по этим разбитым дорогам.
Потом забирал её обратно, захлопывал дверь и несся по этим разбитым дорогам.
Это все люди, спустившиеся с гор буквально позавчера, они сидели в гостинице «Кавказ». По ступенькам, как описывают, в Зимнем дворце текли всевозможные испражнения. И это был полный латиноамериканский disaster. И среди этого всего он был самым цивилизованным человеком — в черной шляпе, в черном пальто, в черном галстуке, в белой рубашке, единственный бритый. И на самом деле именно тогда закладывался тот узел, что с ним надо было начать работать. А начал-то работать с ним Жириновский, у которого были свои политические интересы.
Это одна чеченская предпосылка, что никто не работал с Дудаевым. Это был единственный человек, с которым нужно было с самого начала налаживать контакты, — конфиденциальные, какие угодно. Но здесь же в Москве были заняты разборками между союзным КГБ и российским КГБ — Бакатин, Иваненко…
К. Гордеева: У меня вопрос к Вячеславу. Я недавно встречалась с Аушевым, и он мне сказал такую важную вещь, что Дудаев был готов и очень хотел переговоров с Ельциным. Почему с ним никто не встретился?
Почему с ним никто не встретился?
В. Измайлов: Во-первых, скажу об Аушеве. Я с ним в одни сроки служил в Афганистане. В книге, которую я вам подарил, написано об этом. И Аушев всегда вёл себя мужественно, и когда был президентом Ингушетии. Потому что после первой кампании те, кто был в Чечне, спрятались за кремлевской стеной, а Аушеву надо было с ними жить. И он как-то выдерживал, как-то жил и, самое главное, он сумел сохранить свой народ. И как вы говорите, что с Дудаевым надо было работать, надо было какие-то переговоры. Он действительно хотел переговоры с Ельциным.
К. Гордеева: А что он хотел в этих переговорах? Чего для Чечни? Понятно, что независимость бы ему не дали.
В. Измайлов: Я не могу сказать, что он хотел, потому что не знаю. А знаю то, что в то время многие по примеру бывших союзных республик хотели отделиться от России. Помните, как в Татарстане было непросто?
П. Лобков: Тогда приехали туда два человека — это Старовойтова и великий астрофизик Роальд Сагдеев, и, по сути дела, остановили начинавшийся вооруженный мятеж.
К. Гордеева: В Татарстане?
П. Лобков: В Татарстане. В Бугульме и Бугуруслане уже отряды, очень похожие на чеченские. А известно, что Казань была одной из криминальных столиц Советского Союза. Там были целые криминальные кварталы. В Бугульме и в Бугуруслане уже были палаточные лагеря, где были тренированные с нунчаками ребятки, которые могли пойти буквально послезавтра. И поскольку Роальд Сагдеев на тот момент являлся главным татарским представителем в мировой науке, — это действительно астрофизик мирового класса, — то тогда Старовойтовой и Сагдееву удалось это остановить. Ехали в обычном купейном вагоне, в обычном 4-местном купе.
К. Гордеева: По собственной инициативе.
П. Лобков: Практически да. Ельцин не запретил просто.
К. Гордеева: Вот мы имеем в Чечне светского, образованного, не без странностей генерала, человека, с которым можно говорить по-русски и с которым можно договариваться. При этом прямо в самую первую чеченскую кампанию разыгрывается исламская карта. Кто её разыгрывает?
Кто её разыгрывает?
П. Лобков: Нет, не исламская карта. Разыгрывалась карта следующая. Поскольку Чечня — сложносоставная республика, и существуют приграничные со Ставропольем районы Надтеречный и Шелковской, где преобладает русское население… Это большие станицы, по большому счету, тогда там не было чеченского доминирования. Там была сразу оппозиция Дудаеву. То есть там сразу была установка на раскол. На раскол северных районов и центральных, к которым относятся Грозный, Аргун и Шали. Ну, о Ведено вообще никто не говорит, там всегда было два с половиной человека, в этом Ведено или в Ножай-Юрте. Это вообще не существенное было.
Туда потом ушли во время бомбардировок и создали там в результате горную Чечню. А горная Чечня была мало населена, она малопригодна для жизни.
И там поставили бывших свергнутых. То есть поставили сначала Умара Автурханова, а потом Доку Завгаева.
К. Гордеева: Кто поставил?
П. Лобков: Я конкретно могу сказать, что поставили. Я был в 94 году летом, в августе. Это было за три месяца до войны. Так называемые войска оппозиции наступали на Шелковскую и Надтеречный район. Это были нанятые чеченцы, которыми руководили русские, видимо, какие-то тоже нанятые люди, они не светились. Но мы, конечно, их снимали, потому что мы снимали всё.
Я был в 94 году летом, в августе. Это было за три месяца до войны. Так называемые войска оппозиции наступали на Шелковскую и Надтеречный район. Это были нанятые чеченцы, которыми руководили русские, видимо, какие-то тоже нанятые люди, они не светились. Но мы, конечно, их снимали, потому что мы снимали всё.
Была совершенно анекдотичная сцена. Мы знали, что прилетает вертолёт. Там были, конечно, кураторы из ФСБ. У Автурханова была оборудована комната спецсвязи. С этими ребятами из ФАПСИ, тогдашнего агентства правительственной связи мы задружились, поэтому они нам много чего сливали, это были довольно весёлые парни с Лубянки, такие инженеры.
И мы время от времени слышали вертолёт. На момент, когда вертолёт садился, нас всех загоняли в здание школы, где у них был штаб, где мы жили три или четыре дня.
Но как-то мы с оператором решили схитрить. На холме стоял такой сортир дощатый, мы в этот сортир зашли как раз. Мы знали, что вертолёт в 5 часов утра садится. Мы хотели знать, что это за вертолёт.
Мы вдвоем зашли в это очко. А камеры-то были здоровые, по 12 килограмм, по 15, бетакамы. Мы подковырнули чуть-чуть досочку, какой-то сучок, и высунули туда чуть-чуть объектив. И сидим на стульчаке вдвоём. Я говорю: «А у тебя чего-то снимается?»
Ну и садится — с красными звёздами, с нормальными. То есть они настолько обнаглели, что всякие заливы свиней и прочие спецоперации — это просто верх конспирации. С красными звёздами ещё садится Ми-8, садится второй Ми-8. Из него выходят при полном параде в полевой форме генерал Севастьянов, начальник Московского управления ФСБ, первый заместитель Степашина.
Севастьянов выходит, выходит Автурханов. Они друг другу жмут на камеру руки, как будто это кремлевская протокольная съемка, — камера из туалета снимает.
Дальше какие-то солдатики подбегают, подбегают местные чеченцы. И эти ящики РПГ, страшно узнаваемые гранатометные ящики, их ни с чем не перепутаешь…Ручные противотанковые гранатометы, шайтан-труба вот эта.
И они выносят штабель. Всё, снято.
Всё, снято.
Значит, кассету — и туда, в говняную! Ну, не вниз, а за холм. И как-то надо выходить. Мы по одиночке выходим, конечно. Нам говорят: «А чего вы тут снимали?» — «Ой, мы тут чего-то ходили, вокруг общие планы» — «Ну, давайте нам кассеты, давайте посмотрим».
Ну, смотрим. Там, действительно, снято три общих плана. Потом ночью мы пошли, достали — и в Назрань, в Назрань, в Назрань быстро перегонять.
Потом Добродееву звонит Степашин. А это был 94-й год. «Ну что это такое вышло в эфир? Олег, надо же понимать». На что ему Добродеев сказал: «Ну, вы ж провтыкали это дело. Значит, это вышло в эфир».
В общем, был большой скандал, потому что там были и звёзды, там было всё. И так всё было понятно, но тут было всё доказано.
К. Гордеева: Действительно ли в первую чеченскую кампанию никакой исламской карты не было разыграно? И это выглядело как спецоперация фсбшников?
В. Измайлов: Я тоже считаю, что нет. Я сказал, что этим событиям предшествовали события 26 ноября, когда пытались силами оппозиции, которая была нулевой, свергнуть чеченскую власть, дудаевскую власть.
С Масхадовым я очень много общался, а с Дудаевым не пришлось. Да, он генерал, он как бы вывеска и так далее, но войны желали прежде всего те, кто как Басаев, — такие люди. И до 26 ноября они были, собственно говоря, никем, потому что в Чечне у них особой почвы не было. Она появилась после 26 ноября.
П. Лобков: Это люди, которые пришли с гор в 91 году и которые, в общем, с трудом ориентировались в окружающей действительности.
В. Измайлов: Когда у людей ещё память какая-то была по событиям 44 года, у них было представление: то, что Россия вводит войска в Чечню, значит, что чеченцев хотят снова депортировать. И вот тогда Басаев особенно никем для Чечни не был. А после этого люди с оружием стали иметь вес. И когда в Слепцовской 6 декабря встретились после событий 26 ноября Грачёв и Дудаев… Не Ельцин, а Грачёв, который был фактически не политиком.
К. Гордеева: То есть за 5 дней до войны.
В. Измайлов: Закончилась эта встреча так. Когда Павел Грачёв как бы подобнял Дудаева и сказал: «Ну что, Джохар, значит, война?», Джохар ему тоже с какой-то улыбкой сказал: «Да, Паша, война».
Эти слова знают, но мало кто знает слова, которые сказал Дудаев Грачёву. Он сказал: «Даже если мы с тобой договоримся о мире, те люди, которые в охране, — они нас отсюда не выпустят живыми». Такие слова сказал Дудаев. Потому что люди с оружием стали после 26 ноября иметь вес.
П. Лобков: А оружия было столько, что за той самой гостиницей «Кавказ» и в сторону Старых Промыслов просто ряды стояли. Мы прямо из окон это снимали.Там можно было купить женщину, бронетранспортёр, верблюда, 10 автоматов Калашникова — всё. Автомат Калашникова стоил 35 долларов США. 35 долларов!
В. Измайлов: На рынке в Грозном спокойно продавалось оружие. Я был этому свидетель
К. Гордеева: А это что за оружие было?
В. Измайлов: И автоматы, и всё что угодно можно было купить.
П. Лобков: Это оружие, которое стояло в Грозном. Это те бронетранспортеры, куда солдаты в спешке засыпали сахар, который им выдал завхоз. Но они отмыли, конечно, от сахара. Там был небольшой отряд учебно-тренировочных самолётов. Они умудрялись с них бомбы бросать. Вплоть до того, что, когда войска сухопутные вошли в Грозный после 11 декабря и этого оружия не хватало… А у них были даже «грады», между прочим. Несколько «градов» было у дудаевцев, и они ими очень хорошо пользовались.
Они умудрялись с них бомбы бросать. Вплоть до того, что, когда войска сухопутные вошли в Грозный после 11 декабря и этого оружия не хватало… А у них были даже «грады», между прочим. Несколько «градов» было у дудаевцев, и они ими очень хорошо пользовались.
Что касается тактики и умения пользоваться местностью, то неповоротливая армия совершенно завязла в городе. Более того, они брали обычный пожарный шланг, набивали его пироксилиновым порохом, поджигали магнием. Это была такая огромная труба, которая раскручивалась вокруг себя. Огонь 3 тысячи градусов, магнием с пироксилином они набивали, порошком алюминиевым из советских магазинов разграбленных, и это разбрасывалось. Это была практически термическая бомба. Они научились это делать.
Когда они к тому же самому РПГ-7, который, естественно, завозили к Автурханову… Вся эта степашинская артиллерия тоже оказалась в конце концов у Дудаева. Всё, что в 94 году передали туда, оказалось там.
Они навешивали дополнительные шашки, в силу чего прицельная дальность не увеличивалась, но дальность в принципе попадания увеличивалась в полтора раза.
То есть они делали просто партизанскую войну так, как они умеют это делать, и в этом смысле им не было равных.
К. Гордеева: Я жила в Ростове-на-Дону напротив воинской части, солдаты которой они ушли в Чечню 7 декабря. Это были призывники 94 года, их было больше 300 человек — это были внутренние войска. Из них вернулось 20 человек. Они все ушли, командир этой воинской части потом покончил жизнь самоубийством.
Почему эта огромная армада большой российской армии не справилась, завязла в Чечне на долгие годы и ничего не добилась?
В. Измайлов: Вы знаете с начала 90-х годов в России не проводилось никаких учений, на них не было денег. А если даже и были, то их не хотели проводить. И я сказал, что те, кто заходил в Грозный, офицеры Кантемировской и Таманской дивизий, их опыт был только расстрел Белого дома, безоружного фактически.
К. Гордеева: Но «Альфа», спецназ?
В. Измайлов: Они в этом деле не принимали участия.
К. Гордеева: Был «Витязь».
В. Измайлов: В основном сгоняли солдат-срочников. Много было детдомовцев. Никаких учений не проводилось, они даже оружием не владели нормально.
К. Гордеева: То есть это были необученные солдаты-срочники, которые ничего не могли сделать?
П. Лобков: Да, и несмотря на то, что это было время, наверное, максимальной демократии в России, как ни странно, как теперь выясняется, гражданское общество не существовало. А мы до того, как отправиться в саму Чечню, много снимали. Я был собкором НТВ в Ленинграде, в Питере. И мы очень много снимали здесь и в Каменке, в воинской части, которая к Выборгу, и других частях, как собирали этих солдат. Там матери выли, и каждая выла поодиночке.
До того, как Немцов привез эти подписи, никакого организованного гражданского понятного сопротивления, хотя бы даже этих матерей, фактически не было.
Это очень напоминает историю с Донбассом и историю с Сирией. Когда привозили кого-то хоронить, нам звонили, говорили, что на таком-то кладбище под Гатчиной будут хоронить. И мы приезжали, мы думали, что Гатчина встанет, понимаете? Нет: три с половиной человека.
И мы приезжали, мы думали, что Гатчина встанет, понимаете? Нет: три с половиной человека.
Эта декабрьская полупромерзшая жуть в поле, эти пластиковые цветы, три тетки, которые плачут, убиваются об эту мерзлую землю. Гроб бухается, всё закапывают, и они даже интервью не дают, понимаете? Это как раз способ был бы сказать. Но не мы же, журналисты, должны кричать, что ребята, вас, ваших детей закапывают сейчас вот в эту мерзлую землю. «На той войне незнаменитой забытой маленький лежу». Мы вынуждены были это говорить, потому что матери даже не открывали рта, не поднимали голоса.
Теперь это большой урок, который был, к сожалению, не усвоен, и это повторяется в Донбассе. Но сейчас им затыкают рот деньгами. Тогда же вообще не понятно: и денег-то не было затыкать, и никто не верил, и ФСБ не была такая сильная, было какое-то ФСК полурыхлое степашинское.
То есть вообще ничего не понятно, понимаете? Почему тогда люди не встали? Почему народ молчал? Почему не было ни одного нормального вменяемого митинга по России?
К. Гордеева: Была Валерия Ильинична Новодворская на Пушкинской площади…
Гордеева: Была Валерия Ильинична Новодворская на Пушкинской площади…
П. Лобков: …которую считали все сумасшедшей.
К. Гордеева: Хорошо, солдаты-срочники. Но генералы-то генеральские?
В. Измайлов: Вы знаете, в Чечне я почти не встречал. Наездом — да, были некоторые генералы, те, которые прошли Афганистан.
П. Лобков: А Рохлин?
К. Гордеева: А Грачёв?
В. Измайлов: Почти не встречал. Некоторые были. И даже среди офицеров афганцев было не так уж много. Поэтому, когда говорят: «Вот, опыт войны в Афганистане»… Ведь война в Афганистане закончилась в 89 году, 15 февраля последние части вышли. Если в 94 году началось, 5 лет.
И почти не встречал. Потому что воевать на своей территории многие считали — и правильно считали — неправильным, не должно быть такого. Потому что и среди чеченцев было много афганцев, и сам Дудаев считался афганцем.
К. Гордеева: Мне генерал Аушев рассказывал, что для этих кавказских народов, для чеченцев, для ингушей, если они шли по военной стезе, Афганистан был чуть ли не единственной возможностью заслужить офицерские погоны.
В. Измайлов: Наверное, так. Аушев был дважды в Афганистане.
К. Гордеева: И все братья Аушевы — у Аушева ещё два брата, — они все втроём герои войны.
В. Измайлов: Если б не было событий 26 ноября, была б война? Не знаю. История не имеет сослагательного наклонения. Может быть, была, потому что накипь такая — она шла и в Чечне. Но и в России не знали, как с этим поступить. И если вы помните, после Дудаева был Яндарбиев, который приезжал в Москву, и Ельцин тогда сказал: «Мы с вами не равные. Вы должны сесть там, где-то в другом месте».
П. Лобков: Сбоку стола. Он хотел сесть напротив, как равные договаривающиеся стороны, а он сел во главе, как секретарь обкома посадил.
В. Измайлов: Так разговаривать уже, наверное, было нельзя в то время.
П. Лобков: Это было перед выборами, ему нужно было как бы показать мускулы, тем более что Яндарбиев был фактически в заложниках. Остался потом в Москве: в Ново-Огарево их держали, не выпускали коржаковцы, потому что Ельцин полетел в Чечню расписываться на танке. И если бы с Ельциным что-то случилось, Яндарбиева кокнули бы прямо в Ново-Огарёво, — об этом откровенно говорил и Коржаков, и тогдашний замначальника оперативной службы, службы безопасности президента генерал Рогозин, который потом прославился совсем другими делами. Но тогда он был воякой.
И если бы с Ельциным что-то случилось, Яндарбиева кокнули бы прямо в Ново-Огарёво, — об этом откровенно говорил и Коржаков, и тогдашний замначальника оперативной службы, службы безопасности президента генерал Рогозин, который потом прославился совсем другими делами. Но тогда он был воякой.
Тут ещё, мне кажется, очень важный момент — расстрел Белого дома, 93 год, 4 октября. Силовой способ не встретил решительных протестов в обществе. Решение конфликта, демонстративный расстрел Белого дома, не посчитанные жертвы были. Год прошёл. Да что, уже сколько лет прошло, мы до сих пор не знаем, сколько там погибло.
Понимаете, что представлял собой парламент? Это был так называемый провизорный парламент, избранный в 93 году, когда порох ещё витал над Белым домом. Там же в здании СЭВа, в круглой шайбе конференц-зала собиралась Госдума, выбранная на два года.
Кто из вас может сейчас сказать, какая правящая партия была в России, и какая могла бы сформировать правительство, если бы это была цивилизованная страна, по результатам выборов 93 года?
К. Гордеева: ЛДПР.
Гордеева: ЛДПР.
П. Лобков: Да, ЛДПР. В Кронштадте, во Владивостоке, в Ставропольском, Краснодарском краях, везде, где были сильно милитаризованные края и ущемленные, до 80% голосов доставалось ЛДПР на отдельных участках. Мы такие участки снимали, в частности, в Кронштадте, где были моряки, выведенные из Прибалтики, которые жили в ржавых каютах ржавых кораблей, чуть ли не на «Красине».
Понятно, что Ельцину нужно было быть больше Жириновским, чем Жириновский. Потому что тот рвался в бой, и надо было показать, кто в стране президент. Потому что понятно, что премьер-министром Черномырдин в нормальной стране быть бы не должен — должен быть премьером Жириновский. Ну и Марычев покойный — вице-премьером.
То есть всё было страшно искажённое, нерепрезентативный парламент, который не мог ничего, потому что они вообще были в будке при этом Белом доме. Они выходили из своего СЭВа и смотрели: а там дырка ещё есть?
И всё какое-то было в стране, здесь, в городе… На убийства рядовые мы уже не выезжали снимать, потому что это уже было, знаете, как за пивом сходить, прошу прощения.
Фактически в 94 году государства не было. И в этой ситуации решения принимались стохастически, спонтанно абсолютно. Человек из ниоткуда, Шумейко Владимир Филиппович — председатель Совета Федерации, на заседании Совета безопасности, состоящего из четырёх человек, фактически решил судьбу чеченской войны.
К. Гордеева: Шумейко принимал решение о чеченской?
П. Лобков: Шумейко и Филатов были главными людьми. Эти два совершенно мирных, казалось бы, человека, как позже выяснилось, — да, они голосовали «за». А Грачёв воздержался.
В. Измайлов: Грачёв не только воздержался. Когда все шишки летят на Грачёва… Наверное, он виноват. Безусловно, виноват в штурме Грозного и так далее. Но Грачёв говорил на том совещании перед войной, которое было организовано российской властью, что нельзя, не должны военные в этом принимать участия.
Потом он говорил: «Ну, надо хотя бы отложить до весны!» А Черномырдин встал и сказал, что этого труса надо убрать с поста министра обороны. И вот так всё сбросили на Грачёва.
Но за Грачёвым фактически никто не стоял. Потому что, если взять других генералов, которые были за ним, никто из них не хотел воевать, и, когда Грачёва сняли, это показали. Следующий за ним министр обороны, Родионов — он в Чечне так и не был. Он стал министром обороны в июне 96 года, после того, как Грачёва сняли, но в Чечне не был. И другие генералы многие не были.
А я видел генералов-афганцев, в Афганистане очень активных, много кричащих, — в Чечне они вели себя тихо, спокойно. Вид их говорил о том, что они не хотели этой войны.
П. Лобков: Один из примеров, что представляла собой армия. Я попал на штурм Грозного перед Новым годом. Там был корреспондент НТВ Володя Лусканов, насколько я помню. Когда были первые ковровые бомбардировки Грозного, это снимали с дальних планов. Был такой дождь, зарево — брали, как Берлин, короче. Больше в город старались не входить, потому что боялись повторения ситуации с 26 числом, когда чеченцы, безусловно, выиграли пропагандистскую войну с самого начала, потому что они показали несчастных, затравленных людей.
Тогда же начались «их-там-неты»! Они же были тоже «их-там-неты» — они же все были в отпусках. Задним числом все контракт заключили, как выяснилось. Чуть ли не дезертирами считались официально. И вот армия от них отказалась.
К. Гордеева: Это военные, которые вошли?
П. Лобков: Да, которые на первых танках были 26 ноября. И, конечно, чеченцы сразу раскрутились — Мовлади Удугов, Яндарбиев. Все чеченские интеллектуалы совершенно профессионально повели информационную войну, прежде всего за внимание прессы. А НТВ готово было работать на обеих сторонах, никаких симпатий изначально не имело.
К. Гордеева: Сейчас мы про это поговорим, про симпатии.
П. Лобков: Когда говорят, что Гусинский получал чеченские деньги, как теперь говорит Коржаков на каждом углу… Ну, в принципе, у Гусинского было столько денег, что он мог купить эту Чечню вместе со всеми этими генералами в то время. Просто их было очень много. А у них там не было, кроме этого оружия, фактически ничего.
Так вот, когда я попал в штаб к Бабичеву, это был какой-то консервный завод в Старопромысловском районе, и туда привезли огромное количество всяких боеприпасов, и их положили в огромный фонтан, в чашу фонтана, и пошли куда-то. Уже вечерело: это январь, рано солнце садится. Пошли к Бабичеву в этот подвал, за эти кордоны.
Во-первых, по рациям постоянно шли чеченские голоса, это были не шифрованные рации. Они не купили даже кенвудов нормальных, шифрованных. Это были рации, которые прослушивались чеченцами, и чеченцы разговаривали с командирами, знали их поименно.
Стоит в штабе рация, генерал Бабичев сидит, спецсвязь, все дела. И чеченская ему: «Слышь, когда ты будешь? А-та-та-та! А ты, сука, мать твою…» Вот этого — по имени! «Иван Степанович, кончай войну!» — говорят по рации у него на столе. Представляете, какое унижение?
А когда через час после этого вдруг начинается бомбежка? Известно было, что к январю нечем чеченцев было с воздуха бомбить, просто авиация вызывалась через Москву, и те, кто заказывал авиацию, — может быть, это был Рохлин, может быть, кто-то ещё, — они не знали, что Бабичев уже закрепился на этом консервном заводе, хотя он там уже был неделю, и считалось, что в этом квадрате сидят дудаевцы, и начали. .. Если бы один снаряд попал в эту чашу фонтана, — а там до небес эти ящики стояли, — не то что я бы с вами не разговаривал, а вообще… Понятно?
.. Если бы один снаряд попал в эту чашу фонтана, — а там до небес эти ящики стояли, — не то что я бы с вами не разговаривал, а вообще… Понятно?
То есть friendly fire, дружественный огонь — это было вообще обычное дело, когда самолёты из Моздока вылетали и начинали бомбить по своим.
Тогда же были другие отношения с прессой. Сидит Бабичев, полный такой, у него просто вот так челюсть отваливается в кадре. А если она в кадре отваливается, никто ж потом кассету у тебя не возьмёт. Значит, ты перегонишь материал, где у тебя у генерала Бабичева отваливается челюсть. И что бы потом ни говорили о том, что НТВ работало на стороне чеченцев, у него же челюсть-то отвалилась!
К. Гордеева: Вячеслав, у меня такое ощущение, что с начала первой чеченской кампании и до середины абсолютно точно вся российская пресса симпатизировала чеченцам. Той стороне, скажем так.
В. Измайлов: Мне кажется, что она не столько симпатизировала той стороне. Она была подавлена тем, как эта война развивается со стороны прежде всего России.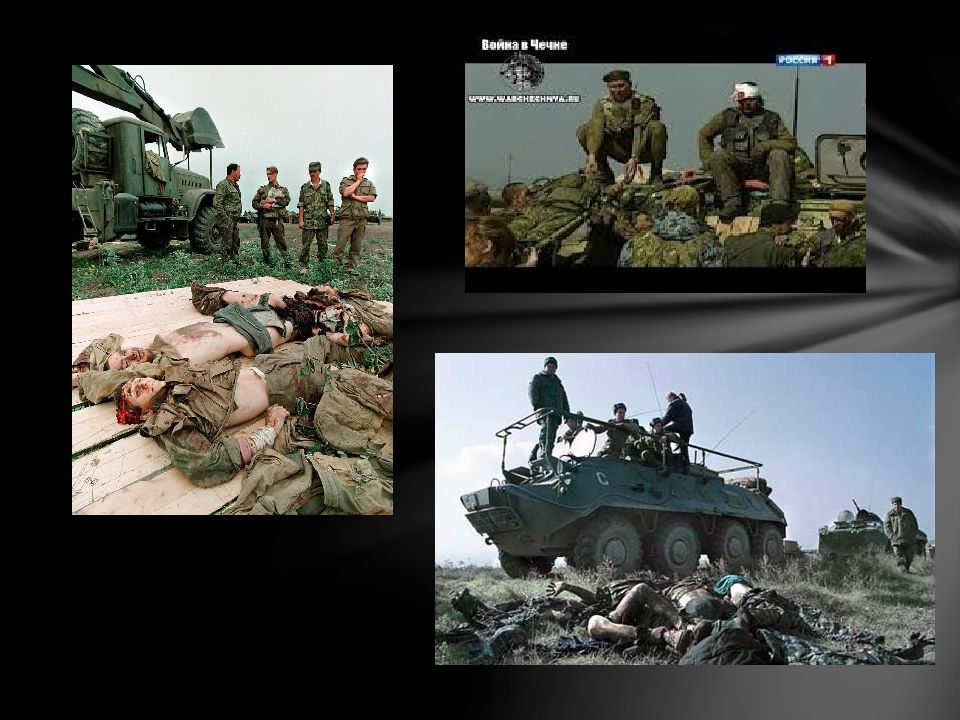 Когда, в основном, гибнут не боевики, а мирное население.
Когда, в основном, гибнут не боевики, а мирное население.
К. Гордеева: А есть статистика по количеству погибших мирных?
В. Измайлов: Вы знаете, нет. По погибшим российским солдатам — да, определенная есть.
П. Лобков: 5100, вроде бы.
В. Измайлов: Это не считая тех, кто находился в земле Чечни и считался без вести пропавшим. Это не считая тех, кто был в плену, и так далее. 5100.
А статистики по погибшим жителям Чечни — нет. Называют разные цифры. Чеченская сторона, ичкерийская сторона называла цифры в 100 тысяч и более. Правозащитники — 30-40 тысяч. И точных данных нет.
К. Гордеева: Когда я готовилась к нашему диалогу, я нашла цифры с разбросом от 10 до 130 тысяч.
В. Измайлов: И точные данные никто не вёл с этой стороны. Я вам скажу такую парадоксальную вещь, что сами чеченцы гибли не только от того, что сбрасывали бомбы не туда, на мирное население. Многие чеченцы гибли даже во время войны от рук самих беспредельщиков. Уже даже не боевиков, а бандитов. Поэтому цифры такой нет.
Поэтому цифры такой нет.
Я занимался вызволением заложников в течение пяти лет. Когда мы говорим, что они профессионалы, они с оружием, они лучше, чем профессионалы… Но зная многих так называемых боевиков, я знаю как страдали их семьи, когда разрывалась граната, и гибла мать или гибла жена, или гиб сын.
А у одного моего товарища, он чеченский правозащитник был тогда, у него мать подорвалась на мине. Потом в скором времени она умерла. Сын старший подорвался на мине. Поэтому об уровне профессионализма очень трудно говорить. Я таких людей знаю очень много.
П. Лобков: В симпатиях прессы вот что важно. Чеченцы сразу поняли, что открытость… Сейчас в это сложно поверить, потому что мы знаем Чечню кадыровскую. Но это были советские партийные деятели, которые учились пропаганде ещё в Советском Союзе. Тот же Мовлади Удугов — комсомолец, тот же Яндарбиев, который был театральным деятелем и чрезвычайно сценическим человеком, тот же Дудаев, у которого был безусловный артистизм, Масхадов, который, безусловно, пленял своей такой мужской откровенностью, открытостью и, наверное, он был самым договороспособным из всех, кто там был. Турпал-Али Атгериев, который был похож на какого-то совершенного романтического персонажа.
Турпал-Али Атгериев, который был похож на какого-то совершенного романтического персонажа.
Басаева и Удугова сделали в 95-м летом. До этого они, в общем, не фигурировали в этих всех делах. Бараев и те фамилии этих ужасных людей, которые мы знаем, они ужасными и считались.
К. Гордеева: Внутри Чечни был свой раскол.
П. Лобков: Был свой раскол. И все эти яркие интеллектуалы сразу поняли: нужна открытость. «Мы берём журналистов, мы их возим везде. Смотрите, вот там дом. Там убило столько народу. Вот там их похоронили, сейчас мы их эксгумируем». Это реально, и мы это снимали.
А что делала федеральная сторона? Мы там даже не знали пресс-секретаря. Я попал в Чечню вообще нелегально, за мешками гуманитарной помощи. Я с Анатолием Александровичем Собчаком договорился, меня спрятали за мешками гуманитарной помощи, и я в самолёте попал на Северный аэропорт. А там Рохлин встречал большим бронетранспортёром. Видимо, они думали, что Собчак летит, а тут вылезли мы. И нас погнали, и мы весь город прошли пешком до Бабичева, и всё снимали под бомбами.
Так получилось, что мы сняли репортаж как блог, травелог, извините за выражение.
Бабичев приютил, но мы до этого сняли ещё всё по ходу.
Вот, смотрите, пресса, да? Нас никуда не пускают. Нас гонят, вместо того, чтобы открыть. Первым туда попал энтэвешник Андрюша Черкасов уже в конце января. Он снял тогда военный госпиталь, который был нашего Шевченко, по-моему.
Он сейчас на «Свободе», насколько я понимаю. Он был первым. «Второй канал» был. То есть они были безумно закрыты.
В это время на «Первом канале» идёт такое, что в Грозном восстановлен конституционный порядок, повесили светофор на улице. Вопрос — а кто же его разрушил, этот светофор?
Вот такие шли материалы на «Первом канале», мы ржали просто. Когда мы к солдатам дошли, они ржали. А офицеры среднего звена, майоры, капитаны — они негодовали, потому что многие из них считали, что совершают подвиг аналогичный генералу Ермолову. У многих из них портрет Ермолова висел над кроватью. Понимаете? А в это время «светофор открыли в Грозном».
К. Гордеева: Вот как раз про это я и хотела спросить. С одной стороны, окей, открытость чеченских сепаратистов, как их тогда называли, возможность снимать в лагерях подготовки…
П. Лобков: Беженцев!
К. Гордеева: Беженцев, жертв. Возможность интервьюировать Шамиля Басаева сколько угодно и так далее. С другой стороны, федеральные войска, которые находятся там, и рядовые солдаты страдают не меньше. Они всё время видят по телевизору себя в роли убийц, разрушителей, захватчиков. Должно ли это было деморализовать армию?
П. Лобков: Это вызывало агрессию. Олег — надо сказать, тогда это был другой Олег Добродеев — он, за исключением Лены Масюк, может быть, у которой были особые отношения: «Так, ты две недели на этой стороне, две недели на той стороне, чтобы соблюдать некий баланс». И когда мы с той стороны приезжали к федеральным силам, конечно, скажем так, это было тяжело.
И когда мы от федералов приезжали, у чеченцев было такое: «Вот, ты фээсбышник». Ну, у стенки постоял один раз потому что какой-то мудак, прости господи, поставил к стенке. Потом пришел начальник чеченский и сказал, что «Отпусти их».
Потом пришел начальник чеченский и сказал, что «Отпусти их».
К. Гордеева: Слава, а вы как считаете, деморализовал ли армию такой настрой прессы?
П. Лобков: Почему настрой прессы? Пресса работает там, где она может работать.
К. Гордеева: Это не обсуждается, ты знаешь, как пресса работает. А люди, которые читают газеты и смотрят…
П. Лобков: А интернета-то не было. Как мы об этом расскажем? Мы же не можем за кадр куда-то выйти. Сейчас человеку не дали что-то сказать, он взял и в твиттере написал или в фейсбуке, или ещё где-то. Тогда же этого вообще не было. Вопрос — где?
В. Измайлов: Насчет деморализовать армию, мне трудно об этом говорить. Я знаю, что в первую чеченскую кампанию с 94-го по 96 год до вывода войск наших не было ни одного похищения журналиста. Потому что к журналистам та сторона относилась так, что эти люди показывают правду.
П. Лобков: Если говорить о случае Масюк?
В. Измайлов: Нет, случай Масюк произошел летом 97 года, после первой чеченской войны.
П. Лобков: Но это была ещё первая всё-таки.
К. Гордеева: Это между войнами.
В. Измайлов: Потом там и Лена Масюк, там и Илья Богатырев, Владислав Черняев из «Взгляда», и иностранные журналисты. Но это всё пошло уже после первой чеченской, в период между двумя кампаниями, во вторую кампанию, особенно между двумя кампаниями. И всё-таки кто-то правду должен нести хоть какую-то. Журналисты несли, я считаю, правду.
П. Лобков: Одним из предлогов для начала войны было то, что в Чечне притесняют русских. Такое было, безусловно, с 91-го по 94 год. И были и похищения. Вообще это была бандитская республика, конечно.
К. Гордеева: Это на волне расцветшего национального самосознания было?
П. Лобков: Национальное сознание расцвело. А, прошу прощения, нефть густая, сернистая и не очень. А вам всё время говорят про Кувейт. А деньги откуда-то брать надо. Вот были эти «авизовки» чеченские, был такой бандустан дудаевский.
Ну какие там источники дохода? Кувейт в 91 году. Окей, Кувейт. А уже 94-й. А где Кувейт-то? Кувейта там тоже не видно было. Ну, три «порше» разобрали, угнали — вот, ездят на них. Ну, грабили поезда, всё остальное. Всё кончилось, что там было, то, что оставили. Надо было куда-то вылезать, авизо заниматься этими чеченскими. В любом случае это был ужас.
Окей, Кувейт. А уже 94-й. А где Кувейт-то? Кувейта там тоже не видно было. Ну, три «порше» разобрали, угнали — вот, ездят на них. Ну, грабили поезда, всё остальное. Всё кончилось, что там было, то, что оставили. Надо было куда-то вылезать, авизо заниматься этими чеченскими. В любом случае это был ужас.
Но похищение русских, убийство русских… Чеченцы — многосемейные люди, у них всё-таки много связей. У них обычно кто-то живёт в деревнях, кто-то живёт в горах. Когда начали утюжить Грозный, им было, куда уехать. А русские же атомизированные. И когда самые бомбежки были, идёшь по этому городу, падает — уже не обращаешь внимания, везде падало. Вот оно падает где-то, падает, а три бабульки русских рядом с подъездом. Что подниматься? Воды-то всё равно нет. Они живут в подвалах, и рядом с подъездом варят суп в котелке.
Что в кадре у вас? Под бомбежкой русские бабки, которых спасали от чеченцев, варят суп в котелке практически чуть ли не на взрывчатке. Вот картинка была какая, понимаете? Мы это показываем, вопрос: это какой эффект имеет? Кого бомбят русские? Русских.
В. Измайлов: Объединяют понятие «боевик», мы назвали так всех. А были бандиты, настоящие бандиты. Я разделял, например. Я научился разделять.
К. Гордеева: Как вы их разделяли?
В. Измайлов: Как разделял? Я ж работал по освобождению заложников много раз. Я видел, кто боевик, — те, кого мы называем «боевиками», бывшего советского генерала, бывшего советского полковника Масхадова и так далее. И были бандиты. Вот Доку Умаров — это бандит, который совершил убийства на территории России, которого привлекали к уголовной ответственности, и он уехал в Чечню.
И многие, кого должны были судить на территории России, сбежали в Чечню. Они не делали погоды во время боевых действий, но зато убивали, резали головы. И в отношении русского населения это действия тоже бандитов, даже не боевиков, не тех, у кого погиб, например, брат, родственник какой-то, и он взялся за оружие.
Я знаю, например, таких чеченцев, у которых погиб близкий родственник, они за оружие не взялись. Из принципа. Не из трусости, а из принципа. Я знаю и таких. Поэтому «боевик» и «бандит» для меня разные понятия.
Из принципа. Не из трусости, а из принципа. Я знаю и таких. Поэтому «боевик» и «бандит» для меня разные понятия.
Я смотрю на этот зал, в основном сидят ребята и девочки или молодые, или те, кто 25 лет назад был в молодом возрасте. А в Санкт-Петербурге есть такие, которые потеряли своих детей.
П. Лобков: В области очень много. Как-то в городе всё-таки отбивали родители от военкоматов, а вот туда, в сторону Финляндии — очень много. В Гатчине, я знаю, огромное кладбище чеченское. Вот там, к Выборгу вообще очень много воинских частей.
Представляете, что представляла собой Ленинградская область в 94 году? Это, извините, просто всё по уши в говне. Это абсолютный упадок всего. И сил, денег кому-то взятку дать… А в 94 году всё можно было купить, и военкомат тоже. Ничего этого не было. Поэтому, конечно, погибали самые несчастные.
Потом матери туда ехали, мы с ними ездили, с этими ленинградскими матерями. Они там встречались с Аркадием Ивановичем Вольским. В 95-м он пришёл, по-моему. Он очень много сделал. Ему должен быть памятник напротив МИДа, а не Примакову. Но тот был министром, конечно.
В. Измайлов: Из Москвы, из Санкт-Петербурга было не так уж много ребят в Чечне. Но они были.
Был санкт-петербургский правозащитник, я потерял с ним связь, Антуан Аракелян. Может, кто-то знает,, кто-то слышал? И я был поражен, как он вел себя, находясь в плену. Он был помощником Галины Васильевны Старовойтовой. Как он вел себя, находясь в Чечне! Потом я знаю одну женщину, которую пришлось мне вытаскивать, вернее, принимать участие в этом. Она тоже из Санкт-Петербурга, её сын из Санкт-Петербурга, хотя родом они откуда-то с Кавказа.
П. Лобков: Офицерам, конечно, было очень плохо: офицеров и расстреливали, и пытали. Это был ужас.
В. Измайлов: Как и контрактников.
П. Лобков: Да, их называли “контрабасами”. А солдат — из этого Мовлади Удугов, который был главным пропагандистом, делал отдельную стратегию — это совсем другое. А надо сказать, что ты ездишь по Грозному, тебе обязательно привет от Мовлади передадут.
Тогда не было мобильников. Дети фактически были агентами. Все чеченские дети так или иначе шпионили. Мовлади всегда знал, где мы находимся. Всегда! Скрыться было невозможно на чеченской части, абсолютно. Мы все понимали, что мы под колпаком работаем.
У них же рации, и это накрывало всю Чечню. А у нас, конечно, ни черта не было, кроме спутникового телефона в багажнике, который нужно разворачивать, примерно как танк готовить к выстрелу, — все птицы слетаются и мухи сгорают, когда ты телефон включаешь. Это был Brown Boveri, жуткий старый шведский телефон. Полчаса его надо настраивать.
Мы снимаем, и вдруг Мовлади подъезжает: «Привет». — «Привет».— «Слушайте, мы тут солдатика выдаем. Поехали-ка со мной». Ну, поскольку с ним три автоматчика, отказать человеку сложно.
И они из каждой выдачи солдата матери делали пропагандистское шоу, что мы не трогаем вот этих несчастных людей, которых убийца Ельцин послал на войну. «Мясник Ельцин послал вас на войну», — это было сказано в камеру всегда на хорошем русском. И вот мы вашей плачущей мамочке вас отдаем. А офицера вот этого… — пленочку купите на рынке, там узнаете, что мы с ним делаем.
И вот мы вашей плачущей мамочке вас отдаем. А офицера вот этого… — пленочку купите на рынке, там узнаете, что мы с ним делаем.
Они так использовали фактор, пытались разъединить солдат с офицерами. То есть солдату ничего не будет. Фактически все пропагандистские наработки Советской армии в Афганистане, Советской армии во Второй мировой, немецкой армии во Второй мировой, все разрешенные и запрещенные приёмы использовались крайне эффективно.
К. Гордеева: А ты говоришь, «с гор слезли»! Можно ли говорить, что Ельцин первую чеченскую войну проиграл, а Путин вторую чеченскую войну выиграл?
В. Измайлов: Я не знаю. Я очень далёк, а сейчас ещё дальше от политики. Мне трудно говорить об этом. Многие есть «за» и «против». Взвешивать — а мне не хочется это делать. Свою задачу я видел в том, чтобы спасти человека. Дай бог спасти человека! А там что будет с ним…
Многие мне звонили после этого, матери звонили. Потому что жизнь была очень трудная, и многие солдаты даже после плена нуждались в какой-то социальной защите, специальном медицинском обслуживании, но этого всего не было. И судьбы, судьбы многих ребят…
И судьбы, судьбы многих ребят…
П. Лобков: А сколько человек вы вытащили оттуда?
В. Измайлов: Дело в том, что газета, в которой я работал, я помню…
К. Гордеева: Это «Новая газета».
П. Лобков: Это был самый острый период. 96-й год, по-моему.
В. Измайлов: Я видел этих матерей в 10-й казарме в Чечне, и у подавляющего большинства сын считался пропавшим без вести, но он не был живым — он лежал где-то в чеченской земле. И многие матери верили в то, что удастся его вытащить. А разубеждать матерей в этом я лично не брался — у меня не было на это смелости и желания. У них было общее горе, и это общее горе и объединяет, и разъединяет.
И я из-за этого никогда не считал. Я помню только первых освобожденных — 34 человека. А остальных я даже имен не хотел знать.
К. Гордеева: Паш, а ты согласен с тем, что Ельцин первую войну проиграл, а Путин вторую выиграл?
П. Лобков: Он проиграл её, по сути дела. Можно по-разному относиться к тому разговору Черномырдина. Мне трудно сказать, что посчастливилось быть в приёмной, когда он вышел и стал по городскому телефону разговаривать с Басаевым.
Мне трудно сказать, что посчастливилось быть в приёмной, когда он вышел и стал по городскому телефону разговаривать с Басаевым.
К. Гордеева: Это знаменитое: «Шамиль Басаев, ты меня слышишь»?
П. Лобков: Да. «Шамиль Басаев, ты меня слышишь? Шамиль Басаев, говори громче». Он делает это из приёмной, это же не в кабинете было. Он вышел из кабинета, потому что у него в кабинете не было городского телефона. А приёмная была ближайшим местом, где был городской телефон, потому что понятно, что в Будённовской больнице не было никакого другого, и организовать там связь было невозможно. Была обычная городская линия.
И понятно, что было тогда поставлено некое большое многоточие, потому что тут же начались переговоры, я тут же вылетел в Чечню. И началось так называемое перемирие.
Это было странное, очень странное время. Это было лето 95 года после того, как все уже разошлись. Чеченцы вернулись к себе, начала восходить звезда Басаева. Масхадов чувствовал себя очень неловко, и он очень любил давать интервью всяким нормальным федеральным изданиям. Он давал понять, что если сейчас вы мне немножко поможете, то мы вместе сможем одолеть напирающий уже исламский радикализм.
Он давал понять, что если сейчас вы мне немножко поможете, то мы вместе сможем одолеть напирающий уже исламский радикализм.
К. Гордеева: То есть уже ислам пришёл?
П. Лобков: Уже саудовские деньги начались, Хаттаб начался, лесные лагеря начались и все дела. Какие-то ваххабитские эти самые начались. Кадыров начался, между прочим, тогда, тогда взошла звезда старшего Кадырова.
В принципе Масхадов никаким исламистом не был и в помине. Мы довольно много ели у боевиков. Можете меня сейчас за это расстрелять, конечно, но, извините, если ты с людьми что-то снимаешь… Снимал и с ними тоже ел.
Так вот, этот жижиг-галнаш, который они варили, и, вы знаете, пять бутылок водки на стол точно ставилось. Я очень мало встречал чеченских боевиков, сепаратистов, которые не пили водки. Удивительно, да?
Никаких демонстративных молений на камеру. Это всё были обычные советские офицеры. А дальше пришли уже те люди, которые в 91 году спустились с гор.
И вот эти, конечно. ..
..
Был второй шанс. С Масхадовым начали переговоры, когда всё-таки были некие выборы в 96 году. В 97-м был некий шанс, но его сорвал тот же Басаев — похищение Масюк. Слишком сложная комбинация для тогдашней Москвы.
Тогда же Зорин у нас был министром национальностей, такой страшно благодушный человек, Михайлов был такой министр. Это вообще люди были из ЦК КПСС какие-то, из идеологического отдела, которых бросили на эту Чечню. Какие-то этнографы, понимаете? Этнографов бросили на Чечню — рыхлых таких, с тросточкой! Это переговорщики были. То есть самых кого не жалко бросали, да?
А что творилось тогда в самой Чечне в это перемирие 95-го года, которое привело к росту вот этого всего? Мы как-то ехали и залегли в окоп, потому что увидели в Сержень-Юрте странное копошение. А там просто грузовики советские подъезжали, с них эти же гранатометы грузились, все эти шайтан-трубы, на красные «пятерки», «семерки» и другие разновидности жигулей, и уезжали в пустыню куда-то. Сержень-Юрт — это цементный завод.
К. Гордеева: И это уже 95-й — 97-й, то есть самое большое количество похищений, да?
П. Лобков: 95-й, 96-й год — торговала армия! Торговала! Продавала боевикам оружие за бабки! На телеобъективе мы это сняли. Мы думали, сейчас нас пристрелят, потому что мы ни тем, ни другим сейчас не нужны. А там такой Али-Баба стоит, Турпал-Али Атгериев, и хлопает по плечу. Они нас спасли. Ну, думаем, всё. Мы все прощаемся с жизнью, а нам говорят: «Поезжайте в Назрань. Мои ребята вас довезут. Мы хотим, чтобы русские увидели, как их солдаты торгуют, нам продают оружие». Это к вопросу о состоянии армии.
А ехали мы из района Ножай-Юрта, так там войска пришли и ушли, пришли и ушли, пришли и ушли. В это время брали то туда, то сюда.
И оставили двух солдат. Двух солдат оставили в этой мешковине, которая тогда формой называлась. Бледного прыщавого 19-летнего мальчика с зеленым лицом. Он ходил на минное поле собирать недозрелую кукурузу и жрал её, понимаете? Они ходили по минному полю собирать недозрелую кукурузу! К вопросу о том, что представляла собой армия в 95-м — 96-м годах. Местные бабки-чеченки ходили хотя бы кусок баранины принести или лепешку.
Местные бабки-чеченки ходили хотя бы кусок баранины принести или лепешку.
В. Измайлов: Вы знаете, книга, которую я подарил, немножко дает ответ на вопрос, но не полностью.
К. Гордеева: Вот о какой книге идет речь: «Война и война» называется — это про афганскую войну и про чеченскую войну. Если вам посчастливится её найти, постарайтесь купить. Это, в общем-то, учебник.
В. Измайлов: Дудаев — советский генерал, Масхадов — советский полковник. Причём он был начальником артиллерии дивизии. А что такое артиллерия? Она очень отличается от пехоты. Это расчёт, это математика, очень много знаний надо было иметь. И если в тот период, например, Дудаев отказался бы от власти: «Не надо воевать с Россией»… Я очень хорошо его понимаю, что он был как знамя, а за этим знаменем стояли другие. И делали политику другие.
То же самое Масхадов. Вы знаете, например, перед второй чеченской войной Масхадов выходил на руководство России, в том числе на Путина о том, чтобы как-то унять Басаева и других таких же. Но если бы Масхадов не возлагал… Он был бы никем. Он был бы российским полковником, подполковником, пенсионером. Его убили в 2005 году.
Но если бы Масхадов не возлагал… Он был бы никем. Он был бы российским полковником, подполковником, пенсионером. Его убили в 2005 году.
И я видел то, что эти люди стоят между двумя огнями. С одной стороны, предать свой народ невозможно. Это значит, ты отвечаешь. Ведь восприятие многих чеченцев было, что им хотят устроить вторую депортацию, второй 44 год. Многие воспринимали это так. И Масхадов понимал, что он не семи пядей во лбу, что если он не возглавит, он будет никем, он будет предателем своего народа. А как-то повернуть они не могли — ни Дудаев, ни он.
П. Лобков: Оказалось, что клин светом сошелся на Ахмате Кадырове. И я никогда не забуду, это было в одном из интервью Путина или у него в телеинтервью: «Я с ним разговаривал первый раз, я подумал, что как будто кто-то гавкает. Даже не мог понять, что человек говорит», — так Путин говорит о старшем Кадырове. И это был, конечно, абсолютный шок, когда в 99 году просто так получилось, что мы пошли брать интервью у Валентины Матвиенко, которая была первым вице-премьером, в Белый дом. Выходим с задних ворот Белого дома в сторону садика Павлика Морозова, прости господи, а навстречу нам идут три или четыре северокавказских губернатора. Черногоров там был, ещё кто-то, Кондратенко и этот, с плаката, боевик.
Выходим с задних ворот Белого дома в сторону садика Павлика Морозова, прости господи, а навстречу нам идут три или четыре северокавказских губернатора. Черногоров там был, ещё кто-то, Кондратенко и этот, с плаката, боевик.
Мы это сняли. Мы убежали. Тогда времена были другие: сейчас бы мы не убежали, просто у нас бы всё стерли и сказали бы, что вы это никогда не видели. Мы это сняли, убежали. И так, в общем, все узнали, что Ахмат Кадыров пошёл куда-то в Белый дом. К кому тогда? Видимо, к Степашину, что ли? 99-й год. Кто с ним разговаривал, не знаю.
К. Гордеева: Кто-то между Кириенко, Примаковым, Степашиным и Черномырдиным.
П. Лобков: Помню, что это было весной-летом 99-го, до начала войны, по-моему.
Так с Масхадовым не получилось бы. Но как-то с Масхадовым можно было. Уж если такой человек, который благословлял на джихад, какими только словами — «отродья» и всё остальное — он крыл, Масхадов был гораздо более, что называется, договороспособным. То есть упустили несколько шансов сразу.
В результате Ахмат Кадыров ещё, конечно, этого не получил, а Рамзан Кадыров получил столько, сколько хотел Дудаев, и абсолютно уверен, ещё полстолько и ещё четвертьстолько и ещё неизвестно сколько он получит, поскольку, как мы знаем, он уже в Арктике, а Дудаев туда не рвался.
К. Гордеева: Что произошло с российской армией внезапно с 95-го по 99 год, что в декабре 94 года она не смогла взять Грозный и захлебнулась в Чечне, а в 2001 году в Чечне был восстановлен, как это говорилось, конституционный порядок?
В. Измайлов: Реально произошло не так уж много. Я, например, до 91-го года служил в благополучной Германии. И учения уже не проводились ни там, ни там. Где-то последние, может быть, в 91 году какие-то можно было назвать учениями. А в России, в Советском Союзе они не проводились совсем. И солдат не обучался, не был готов к тому, чтобы воевать. Ни солдат, ни офицер. И, увы, не генерал.
Я вам сказал, что в Чечне почти не было генералов. Был. В Афганистане Рохлин был. Но он был снижен в должности в Афганистане — он командовал отдельным полком, стал командовать полком дивизионного подчинения. Его сняли с должности за потери личного состава.
Но он был снижен в должности в Афганистане — он командовал отдельным полком, стал командовать полком дивизионного подчинения. Его сняли с должности за потери личного состава.
Но говорят, за двух небитых одного битого дают. Просто этот человек уже имел опыт.
Таких было очень мало, таких почти не было.
П. Лобков: А Бабичев Иван Степанович не был в Афганистане?
В. Измайлов: По-моему, не был.
П. Лобков: Он десантный генерал, как он мог мимо Афганистана пройти?
В. Измайлов: Ну, например, Путин — эфэсбэшный полковник, но он в Афганистане не был. Хотя многие сотрудники ФСБ прошли через Афганистан. За девять с лишним лет он тоже мог быть.
И что произошло с нашей армией? Во-первых, после первой кампании многие чему-то научились. Прежде всего офицерский состав и, может быть, генеральский состав. Потому что одни и те же офицеры и генералы участвовали и в первой, и во второй чеченских кампаниях.
Я, правда, по-разному отношусь ко многим из них, но одни и те же участвовали, и какой-то опыт они приобрели. И поэтому чему-то солдат они могли научить.
И поэтому чему-то солдат они могли научить.
А ещё хочу сказать по поводу первой кампании, по поводу наших потерь. До конца потери наших военных неизвестны, потому что было очень много ребят. Ведь когда шли на Грозный, особенно в самом начале, это были сборные подразделения: одного взяли оттуда, другого оттуда, третьего оттуда. Кто-то потерялся, кто-то потом…
И в Чечне я встречал очень немало солдат, которые год и более служили в Чечне, но не числились в списках ни одной из частей. Их держали, и командиры их не ставили. Что-то случилось с этим солдатом — командир за него не отвечает. И таких было очень даже немало.
Потом, как я сказал, было много солдат-сирот. А один раз, беседуя с молодыми солдатами, я узнал, что их готовили в учебке месяца три, родители стояли на КПП и ждали своих детей, и хотели с ними попрощаться. А их автобусами через заднее крыльцо отвезли сразу в аэропорт, посадили в самолёт и отвезли в Чечню, и родители с ними не попрощались, и многие не видели своих ребят ни живыми, ни мертвыми.
И я сказал о том, что на Ханкале 200 с лишним матерей находилось. И где-то у единиц, может быть, у десятков дети были живы, а у остальных — нет, считались без вести пропавшими. И они находились в Чечне. И они так надеялись, что их детей найдут.
Я знаю тех матерей. Одна приехала в Чечню с мужем. Муж в Чечне погиб. Она его похоронила там же, в Чечне. Пока дочка 18-летняя оставалась одна, попала под машину. Она не только сына потеряла, она потеряла всех родных и близких. Были и такие. Были которые умирали там, в Чечне.
П. Лобков: Я по поводу 99 года хотел бы вот что сказать. Я работал тогда в основном в Москве. В США и в Москве, в Госдуме, потому что тогда Госдума была у нас самой горячей точкой в стране — там же у нас премьеры менялись и все эти интриги с Примаковым, с Геращенко. И поэтому с другой стороны немножко это всё видел.
Но я всё-таки в декабре 99 года поехал в Ингушетию. Там был самый большой лагерь беженцев. Не знаю, можно ли назвать это абсолютным успехом армии? Но когда у вас в поле под Назранью стоят в декабрь. .. Нам кажется, что это юг, а там зимой минус 12, минус 15. И ты едешь на бронетранспортере… Вот такой коврик. Короче, он у меня до сих пор.
.. Нам кажется, что это юг, а там зимой минус 12, минус 15. И ты едешь на бронетранспортере… Вот такой коврик. Короче, он у меня до сих пор.
А из Чечни мы привезли две штуки — гастрит и простатит. Это две вещи, которые поражали всех. Что жрали — это не описать! А на чём ездили? Ездили на броне. С кем бы ты ни ехал, ты едешь на броне, у тебя вот такой поролоновый коврик. А минус 12, минус 15, пронизывающий ветер, снега нет, пыль в морду. Это ад на земле. Поэтому зимняя война в Чечне в 94-м, в 95-м и в 99-м зимой — это, конечно, был атас!
По-моему, там было 150 тысяч было беженцев. Столько было чеченцев в Ингушетии. Практически как котел в Блаце, о котором знает весь мир, это албанцы.
Можно ли назвать это успехом 99 года? Не знаю. Но бомбили, видимо, так же, я просто не помню. Тогда что власть поняла? Она поняла, что пропаганда — это великая сила.
Сергей Владимирович Ястржембский, который сейчас охотится на козлов в Африке, тогда охотился на деньги.
К. Гордеева: «Пиип»!
Гордеева: «Пиип»!
П. Лобков: Он основал такой Росинформцентр. Что это было? Это такой поезд. Я там не был, слава богу. Я с другой стороны поехал, со стороны Ингушетии.
К. Гордеева: Это называлось «Информационный контртеррористический центр».
П. Лобков: Росинформцентр. Это было с лета, по-моему, 99 года, с самой операции.
Поезд стоял где-то между Ассиновской и Бамутом на железнодорожных путях, потому что по этой дороге никто не ездил уже давным-давно. Знаменитая дорога, которую Горький строил, — шоссе, и параллельно шла дорога на Баку через Грозный.
И вот там стоял поезд, и в этом поезде под охраной внутренних войск жили журналисты, которых вывозили оттуда снимать то, что покажут. Как боевики добровольно сдают оружие, как ещё что-то. Ой, все туда переездили, были собраны все каналы. Тогда Степашин как-то пожестче себя вёл, не так, как в 94-м. Он тоже многому научился. Он же уже был премьер-министром! А тогда он был главой ФСК. А ведь, между прочим, Ерин был уволен. Кто ещё был уволен после Буденновска?
Кто ещё был уволен после Буденновска?
К. Гордеева: И тогда появляется аккредитационная карточка. Журналист мог поехать в Чечню только по…
П. Лобков: А только Бабицкий Андрей, по-моему, единственный, у кого была нормальная техника ещё к тому же. Потому что тогда же ещё какая была фигня? Вот, сейчас все эти экшн-камеры, GoPro, ты можешь пойти и писать 8 часов на экшн-камеру. А тогда бетакамовская кассета. Ты не проглотишь её! Ты её с самолёта увидишь, понимаете? Он вот такой, он 18 килограмм. Куда ты его спрячешь? Handy — самая маленькая была камера. Всё, что меньше, — это шпионская камера, которая только может ч/б снять.
А у Бабицкого была нормальная камера, и он куда-то ходил. Это единственный человек, который ходил в 99 году туда-сюда и снимал и тех, и других.
Я через Назрань пошел, обратным путем: Назрань, потом Ассиновская, потом туда. Мы тихо пробрались, сняли гуманитарную катастрофу, потому что тогда была настоящая гуманитарная катастрофа.
Победа это? Вторая гуманитарная катастрофа за 5 лет! Дети учились на открытом воздухе в палатке, где стоял один примус на 20 человек. Да зубы просто стучали непрерывно! Даже где-то попали с войсками, и среди какого-то заводского корпуса стоят палатки, и зубы стучат, понимаете, физически. Я понял, как люди в блокаду жили. За три дня ты всё начинаешь получать.
Да зубы просто стучали непрерывно! Даже где-то попали с войсками, и среди какого-то заводского корпуса стоят палатки, и зубы стучат, понимаете, физически. Я понял, как люди в блокаду жили. За три дня ты всё начинаешь получать.
Зубы стучат! Опять. Одна курица пойманная на 15 человек, супы из пакета, гастритные в 99 году. Ни черта, на самом деле, не появилось-то. Это у Путина была рюмка водки знаменитая, которую мы выпьем потом, когда все вернёмся. Вот чего было в изобилии, так этого дела. А на голодный желудок…
А агрессия какая! Вы не представляете себе. Они подумали, что мы такие свои-свои, перестали нас стесняться, потому что мы с ними две ночи провели, с внутренними войсками. И они перестали нас стесняться, подумали, что мы такие правильные, от Ястржембского, все дела.
А мы снимали, знаете, как бывает? Метод включенного наблюдения. И когда они приходят на зачистку — это выезжают в деревню, грубо говоря, извините, вермахт. Вот так вот прям колонной! И идут по домам. «Есть кто?» Гранату бросил — нет никого. А кто там есть на самом деле, никто не знает. Прямо открывают дверь, швыряют гранату.
«Есть кто?» Гранату бросил — нет никого. А кто там есть на самом деле, никто не знает. Прямо открывают дверь, швыряют гранату.
Потому что им было дано чёткое указание — не считаться с потерями местных жителей. Никаких. Бросил гранату — молодец. Потому что, если ты не бросишь гранату, в тебя бросят гранату.
Совершенно по-другому была построена не боевая часть, а, скажем, политика воспитательная, то, что называется, пропагандистская и политруковская. То есть им сказали: «Это звери». Вот реально, все чеченцы — звери.
Мы же с ними ночевали несколько ночей в центре. Если их предшественники в первую войну думали: «Что, блин, мы здесь делаем вообще, а? Вот, бабку вчера русскую подстрелил, блин. Ну я целился в это, а бабка там выбежала, блин. Русская же бабка, а?»
А тут — всё. Им про Ермолова стали рассказывать, им стали рассказывать про то, что они на русскую землю пошли, вот в эти два села, где Лёша Поборцев был, я там не был. Вот эти первые-то сёла, куда Басаев зашел, дагестанские. Очень чётко Ястржембский свою задачу выполнил.
Очень чётко Ястржембский свою задачу выполнил.
К. Гордеева: Ты имеешь в виду августовский блицкриг чеченских?
П. Лобков: С августа по октябрь фактически.
К. Гордеева: И одновременно с этим уже в 99 году в Москве начинают взрываться дома.
П. Лобков: Да, которые ещё к тому же укрепляют всех во мнении, что они, конечно, звери. Причем звери все. Там нет мирных жителей. Тогда же была замечательная фраза в ходу, Шендеровичем брошенная: «Днём он мирный абрикос, а ночью — вооруженный урюк».
То есть Путин сделал то, что он потом сделает со всей страной. Он всех научил любить родину. Сначала научил всех солдат любить родину и перестать сомневаться. Была выстроена партийная линия. Главную роль сыграл Ястржембский, ну и потом, действительно, три блистательных генерала — Казанцев, Трошев и Шаманов — и они были опубличены то, что называется.
Если Рохлин был такой, задумчивый… Вообще Рохлина уже не было в живых, да? Это был немножко задумчивый человек в очках с толстой оправой, перевязанных изолентой, и попытка Невзорова сделать из него героя провалилась в 96 году.
Бабичев был тогда смещён, и я его видел во Пскове — он, по-моему, командовал знаменитым псковским десантным училищем. И Шаманов… Было сказано их снимать. Им было сказано не бегать от камеры. И страна увидела Ермоловых аж не одного, а сразу троих. И поддержка сразу в народе появилась у армии.
К. Гордеева: Согласны, Слава?
В. Измайлов: Нет, не согласен, потому что, зная всех этих троих, я скажу, они были очень разными. Если к Трошеву я всегда относился хорошо, он был Грозненский, и я помню его слова после первого перемирия 96 года. Я стоял оперативным дежурным. И он стоял у офицеров после того, как Лебедь договорился.
П. Лобков: Это август после Хасавюрта, да?
В. Измайлов: Да, где-то конец августа, может быть, начало сентября.
В. Измайлов:Я только слышал его голос, потому что я его не видел. И он говорил офицерам: «Мы же с ними учились в одних школах, мы же с ними вместе дрались, мы же с ними вместе жили». Я помню, как он успокаивал офицеров.
Казанцев… У меня осталось такое впечатление, два эпизода вам расскажу. Когда Казанцев был замкомандующего северокавказским военным округом, а командующим был Квашнин, ему поручили провести занятие с офицерами. Мы очень редко проводили на Ханкале в первую кампанию, и он собрал всех офицеров.
Ну, два часа ещё все посидели, объявили перерыв, и после перерыва пришел один я. Вообще никого не было.
И ещё один эпизод с Казанцевым очень интересный. Это март 98 года, промежуток, Казанцев уже командующий войсками округа. Инаугурация Аушева, март 98-го. Приезжают боевики — я их всех посчитал — во главе с Басаевым на инаугурацию и чувствуют себя прекрасно, Атгериев, Басаев, Ахмат Кадыров — муфтий Чечни в то время. И приезжают наши военные, командование округа — Казанцев и другие. А Басаев находится уже два с лишним года в розыске. И дом культуры, где происходит инаугурация, на первом ряду пролёт такой, сидит Басаев, и слева от него ни одного человека нет. Зал набит — слева ни одного. А в затылок ему сидит Казанцев, и тоже с левой руки от него никого нет. Я подумал сейчас: «Ёлки-палки, мог стать героем России на два года раньше, если бы обнял Басаева и задушил его».
А в затылок ему сидит Казанцев, и тоже с левой руки от него никого нет. Я подумал сейчас: «Ёлки-палки, мог стать героем России на два года раньше, если бы обнял Басаева и задушил его».
И вот я вижу российских военных во главе с Казанцевым — у них лица хмурые. Они с боевиками, с которыми воевали — вот это главная причина. А потом вместе сидели. Начался банкет. Чеченцы же не пьющие, так сказать.
П. Лобков: Стали.
В. Измайлов: И они сидят в отдельном зале — там сидит и Рамзан Кадыров, Ширвани Басаев там — он тогда был министром топлива и энергетики Чечни. И я среди непьющих чеченцев сижу. Они непьющие, а все остальные сидят в другом зале. Там и президенты Северокавказских республик, и представитель президента России. А среди непьющих, среди чеченцев нет одного человека — Басаева Шамиля. Он в зале.
К. Гордеева: С пьющими, что ли?
В. Измайлов: С пьющими. Я подумал, елки-палки, за что же он поднимает тост? Наверное, за нашу победу. А о Шаманове говорить не хочу, потому что я с ним всегда был на ножах.
П. Лобков: Надо сказать, что полковник Буданов был любимым подчиненным у Шаманова. И мы с ним подробно говорили, когда была выборная кампания в 2000 году. Шаманов пошёл в губернаторы Ульяновской области и какое-то время там просуществовал. Отличился он одним — тем, что в Димитровград через свои связи в Кремле перевёл Буданова, который срок отбывал. А для него, как для Брейвика, построили отдельное здание в Димитровградской колонии, где он замечательно существовал в течение всего срока.
Кстати говоря, по поводу того, что все они звери, их всех надо мочить. Вот классический пример второй кампании. Полковник Буданов — классический герой второй кампании, это была одна из таких зачисток.
Ну, я был на другой зачистке, при мне никто никого не насиловал. Но при мне в дома, где были люди, бросали гранату. А что уж там происходило внутри, потом, видимо, похоронные команды разбирались. Не считали вообще жертвы. Они предполагали, что там есть боевики. Это вообще была просто акция устрашения.
Уже были и мобильные телефоны, всё-таки четыре года прошло. Уже были какие-то фотографии, MMS, это всё распространилось. И это была такая же акция Буданова, такая же зачистка, март 2000 года.
К. Гордеева: С Эльзой Кунгаевой.
П. Лобков: С Эльзой Кунгаевой. Такая же зачистка, просто не кинули гранату. Он просто ворвался, а там девушка хорошая сидит. Ну а чего нет?
И мне Шаманов потом о нём говорил, что тяжелый алкоголик, проблемы с женой. Я говорю: «А в отпуск его отправить?» Он говорит: «А я его посадил на свою “волгу”, сказал: “Поезжай в Сочи”, выбил ему место в военном санатории. Он посреди дороги развернулся». Я говорю: «А дальше?» — «А дальше — а что мне делать? Определил служить. А через две недели случилась Эльза Кунгаева».
Это к вопросу о том, кто были главные люди в этой кампании. Просто была дана полная лицензия на отстрел во второй кампании. Делайте всё, что хотите, но чтобы этих лесных там не было по определению.
В. Измайлов: И вот один момент. Когда Павел сказал, Шаманов и Буданов. Возбудили на Буданова уголовное дело. Он не проходил за изнасилование, хотя реально изнасилование было. За убийство Эльзы Кунгаевой — да, но не за изнасилование, я знаю досконально.
Когда Павел сказал, Шаманов и Буданов. Возбудили на Буданова уголовное дело. Он не проходил за изнасилование, хотя реально изнасилование было. За убийство Эльзы Кунгаевой — да, но не за изнасилование, я знаю досконально.
И второй момент. Когда нельзя всех — и офицеров, и генералов — под одну гребенку даже во время войны. Инициатором возбудить уголовное дело против Буданова был нынешний начальник Генерального штаба, а в тот момент заместитель Шаманова Герасимов. Он был инициатором возбуждения против Буданова уголовного дела.
И когда он приехал арестовывать Буданова, Буданов поднял руку и на него. Не просто руку — оружие.
П. Лобков: Он же страшный какой, Герасимов.
В. Измайлов: Правда, он выстрелил не в Герасимова, а выстрелил в землю.
А один из заместителей министра обороны, которого я не хочу называть, он мне прямо сказал: «Буданов сволочь, но ты выключи микрофон». Но я всё-таки записал это.
П. Лобков: То есть эти зверства тоже не культивировались, правильно я понимаю, сверху?
В. Измайлов: Да. Я скажу, разница между Афганистаном и Чечней. В Афганистане я не видел ни одного генерала. Были среди офицеров такие, которым было всё равно. Но среди генералов не было ни одного такого, который бы сказал: «Убей этих, звери они и всё такое прочее». Не было. Наоборот, я слышал доброе отношение к афганцам со стороны генералов, со стороны заместителей командующего армией.
Измайлов: Да. Я скажу, разница между Афганистаном и Чечней. В Афганистане я не видел ни одного генерала. Были среди офицеров такие, которым было всё равно. Но среди генералов не было ни одного такого, который бы сказал: «Убей этих, звери они и всё такое прочее». Не было. Наоборот, я слышал доброе отношение к афганцам со стороны генералов, со стороны заместителей командующего армией.
К. Гордеева: Ну, к афганцам — имеется в виду к дружественным афганцам, не к душманам?
В. Измайлов: Да. А в Чечне такое видел, когда со стороны генералов ко всем чеченцам такое, что это «обезьяны».
П. Лобков: «Зверьки» — тогда было слово такое.
В. Измайлов: «Обезьяны», — это говорил человек, который сейчас председатель комитета Государственной Думы по обороне.
К. Гордеева: Google it.
П. Лобков: А кто сейчас?
В. Измайлов: А сейчас Шаманов. Вот пример Буданова, когда нынешний начальник Генерального штаба… Я только хорошее о нём могу сказать и о его отношении. А в первую кампанию он командовал 19-й дивизией — это 58-я армия. И всегда был спокойным. И всегда был уравновешенным.
А в первую кампанию он командовал 19-й дивизией — это 58-я армия. И всегда был спокойным. И всегда был уравновешенным.
К. Гордеева: Последние два вопроса. Считаете ли вы всё последующее после второй чеченской кампании продолжением, то есть третьей чеченской фактически войной? Я имею в виду Беслан, я имею в виду «Норд-Ост», я имею в виду все террористические акты, которые были в Москве в начале 2000-х?
В. Измайлов: Я считаю, что результат чеченских кампаний, не разделяя их, — это нынешняя российская власть и всё, что сегодня происходит у нас в России.
П. Лобков: В каком-то смысле мне кажется, что одним из главных результатов чеченской кампании явилось, что Кадыров взял всё, что хотел Дудаев, и ещё столько, ещё полстолько. Что фактически Россия не смогла победить военным путем в Чечне, и, поскольку конъюнктура на мировом рынке, как мы знаем, после 98 года резко пошла на улучшение нефтяных цен, появились дополнительные деньги и появилась возможность залить этот пожар денежными знаками.
Мысль не новая, но мы видим все эти небоскрёбы. Кстати говоря, я год назад прошёл в «Грозном-сити» эти небоскребы. Надо сказать, там нет ни одного частного арендатора. Ни одного! Ноль! Первые три этажа занимает школа спецназа имени Ахмата Кадырова. Университет спецназа — прошу прощения, я оскорбил их, придется извиняться. Извините, пожалуйста! Университет спецназа, конечно. Дальше идут подразделения таких экзотических, как Росалкогольрегулирование. Я не понимаю, что Росалкоголю регулировать в Чечне? Вот эти две бутылки, которые продаются с одиннадцати до одиннадцати-тридцати? Дальше там какие-то другие федеральные ведомства. Каждый этаж — это ведомство какое-то, российское министерство. И это все арендаторы.
То есть это фейк, по большому счету, с пыльными окнами, кстати.
Если подольше постоять около этого «Грозный-сити», то въезжают не только те машины, которые нам показывают. Они сами любят, когда мы показываем эти черные «крузеры», вот эту красоту, эти бесконечные «гелендвагены». Нет, там прямо застревают чихающие «ижи». Когда вы последний раз «иж» видели? А я видел «ижи» в воротах «Грозный-сити». Там ещё есть «Аргун-сити», «Шали-сити». Там, конечно, тоже будут не частные арендаторы.
Нет, там прямо застревают чихающие «ижи». Когда вы последний раз «иж» видели? А я видел «ижи» в воротах «Грозный-сити». Там ещё есть «Аргун-сити», «Шали-сити». Там, конечно, тоже будут не частные арендаторы.
Постройте эти египетские пирамиды. Там ещё строится «Ахмат-тауэр» напротив. Я не видел, год назад там ещё был нулевой цикл. Может, там уже что-то возвели? Я не знаю.
Там строится идеология. А идеология очень интересная. Идеологию строит человек с партийным опытом, Умаров. Он фактически придумал такое чеченское Аненербе. То есть чеченский язык — он был сначала. А знаете, откуда фамилия Бенуа? Петербуржцам это будет небезынтересно. От тейпа Беной, конечно. Конечно! Ну, спросите любого мальчишку в Чечне.
А где Ноев Ковчег пристал? Вы думаете, на Арарате? Нет, в Ножай-Юртовском районе.
И вот это всё там поощряется. И получилась новая совершенно автохтонная не только экономика, не только армия, которая до Арктики дошла, там Аненербе фактически.
Вот, это результат. Дудаев до такого не додумался бы, чтобы Ноев Ковчег причалить и Бенуа из себя вывести. Вот это всё результат.
Дудаев до такого не додумался бы, чтобы Ноев Ковчег причалить и Бенуа из себя вывести. Вот это всё результат.
И, конечно, самое главное событие в истории чеченского народа до чеченской войны, а именно депортация — одно из самых трагических событий. Сейчас за его упоминание люди садятся в тюрьму. 23 февраля нельзя скорбеть — надо радоваться. Потому что не надо русских настраивать против себя, поэтому не надо устраивать из этого дня какое-то там поминовение. Для этого есть другие дни — что-то было перенесено, хитрая какая-то была фигня сделана тем же Умаровым. То есть, короче говоря, их заставили отрицать даже факт, когда чеченский народ был безусловной жертвой и вызывал абсолютное сочувствие.
К. Гордеева: Когда я готовилась к нашему диалогу, я разговаривала с одной журналисткой, которая много бывает в Чечне. Она мне сказала, что, по большому счету, в Чечне сейчас мир. И, видимо, это тот мир, который и был нужен, другого невозможно. Этот мир очевидно лучше, чем первая и вторая чеченская война. Как каждый из вас считает, закончилась ли чеченская война?
Как каждый из вас считает, закончилась ли чеченская война?
В. Измайлов: Я не могу лично ответить на этот вопрос, но я скажу одну вещь, и это как бы параллельно.
Вы знаете в Чечне погибли не только солдаты и гражданские люди, и журналисты. Владимир Яцина, корреспондент ИТАР-ТАСС — он не просто погиб в Чечне, его расстреляли. Но и его останков нет. И вот его мама Надежда Ивановна Яцина буквально за несколько месяцев до своей смерти позвонила мне и говорит, что хоть землю надо привезти с того места, где его расстреливали.
Я поехал с его братом младшим уже в современную Чечню — это было лет восемь назад. И я приблизительно знал место, где он погиб. И нас сопровождали ребята из ФСБ Чечни, и чеченцы, и русские.
И я задал вопрос начальнику ФСБ — он генерал-лейтенант, сейчас в одной из республик. Он, кстати, прошел Афганистан. И он сказал мне: «Моя задача — чтобы не было третьей чеченской войны». Вот такая задача. Наверное, это правильно, потому что очень трудно сказать, что будет дальше.
К. Гордеева: Паш, закончилась война?
П. Лобков: Я думаю, что войны нет. Но российская власть капитулировала, и в Чечне нет конституционного порядка, который там устанавливался ценой крови тысячи наших сограждан. Потому что, когда у вас на отдельно взятой территории Российской Федерации происходит то, что происходит, когда глава республики говорит: «Надо убивать» — и что-то ещё было неделю назад, а президент говорит, что Кремль об этом ничего не знает, когда до этого тоже Кремль ничего об этом не знал.
Потом — бог с ним, пускай они в Арктику замечательно ездят. Но когда Следственный комитет не может получить свидетелей по делу Немцова, этого мы никогда не забудем. То есть это фактически «с Дона выдачи нет». Фактически без войны Кремль капитулировал перед Рамзаном Кадыровым, безусловно. И Путин — умный человек, он, конечно, понимает, что ему не нужны его портреты на проспекте Путина напротив жижиг-галнашной. Ему нужно другое, и этого он получить не может.
Кстати, вы заметили, сколько времени уже Путин не встречался с Рамзаном Кадыровым? Уже более года, чуть ли не полтора. А я даже чего-то не помню, когда была последняя встреча? Сегодня с Медведевым?
А я даже чего-то не помню, когда была последняя встреча? Сегодня с Медведевым?
К. Гордеева: Кадыров сегодня встречался с Медведевым.
П. Лобков: Это, наверное, на съезде «Единой России». Это не считается. Нет, я имею в виду специально оркестрованная встреча как с губернаторами, с секретарем обкома. Я считаю, что Москва капитулировала перед Грозным абсолютно. И победа была одержана в результате людьми, о которых мы очень мало знаем. А то, что мы о них знаем, благодаря в том числе Анне Политковской, которая была убита за, видимо, это знание, то, что мы знаем, благодаря Анне Политковской, как говорится, хочется иногда это развидет
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.
Пойдет ли Россия по пути Советского Союза?: Евангелиста, Мэтью: 9780815724995: Amazon.com: Books
«Это… хорошо изучено, опираясь как на обширную вторичную литературу, так и на многочисленные русскоязычные источники…. его аргументы убедительны, и любой, кто считает, что Россия при Путине все еще находится на пути реформ или движется к демократии, должен принять во внимание вопросы, затронутые в этой работе, поскольку война в Чечне остается центральной в развитии посткоммунистической России». — Пол Кубичек, Оклендский университет, Международные отношения , 01.01.2004
— Пол Кубичек, Оклендский университет, Международные отношения , 01.01.2004«…. дает захватывающую и хорошо структурированную картину предыстории и событий, приведших к двум войнам. Работа Евангелисты должна быть обязательна к прочтению для всех, кто интересуется Россией и ее отношениями с ее федеральными партнерами… Это важная книга, и она вносит значительный вклад в ограниченную библиотеку литературы по Чечне… Это не только для экспертов, даже те, кто имеет очень ограниченное представление о ситуации, будут просвещены этим». — Грэм Дайсон, Центр миростроительства и конфликтов, International Journal on World Peace ] предлагает одно из немногих оригинальных, систематических обсуждений вопроса, который вызвал в основном лозунги со стороны как сторонников, так и противников независимости Чечни.— Лоуренс А. Уззел, Chechnya Weekly , 20 февраля 2003 г.
«Тщательное и тщательное изучение коренных причин чеченских войн 1994 и 1999 годов, а также информативное научное исследование влияния этих конфликтов на как о Чечне, так и о России».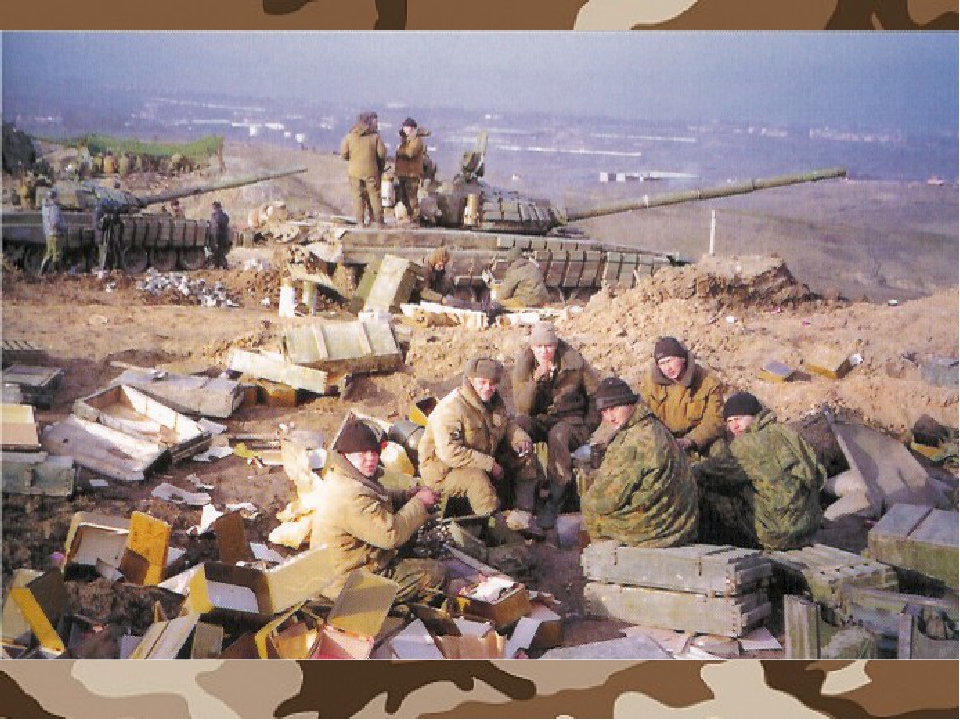 — The Bookwatch , 01.04.2003
— The Bookwatch , 01.04.2003
«Евангелиста дает четкий, сфокусированный анализ продолжающейся войны России в Чечне — почему были начаты две войны (в 1994 и 1999 годах) и что они означают для российской политической системы в целом.» — П. Ратланд, Уэслианский университет, Выбор
«Впечатляющая новая книга… убедительный синтез новых взглядов российских солдат, ученых и политиков». —Чарльз Кинг, Джорджтаунский университет, Иностранный Дела , 01.03.2003
Заброшенность и рекультивация сельскохозяйственных культур во время и после чеченских войн на Северном Кавказе
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.01.005Get rights and contentHighlights
- •
Мы смоделировали изменения в землепользовании в сельском хозяйстве во время и после чеченских войн.
- •
Сельскохозяйственные земли, находящиеся ближе к конфликтным зонам, были более склонны к заброшенности.
- •
Интенсивность конфликта в целом положительно коррелировала с отказом от сельского хозяйства.

- •
Ограниченная рекультивация заброшенных сельскохозяйственных угодий в районах, близких к конфликтным зонам.
Abstract
Вооруженные конфликты широко распространены во всем мире и могут сильно влиять на общество и окружающую среду.Однако, где и как вооруженные конфликты влияют на землепользование в сельском хозяйстве, недостаточно изучено. Кавказ — это многоэтнический регион, переживший несколько конфликтов вскоре после распада Советского Союза, в первую очередь две чеченские войны, в связи с чем возник вопрос о том, как изменились сельскохозяйственные угодья. Здесь мы исследовали, как расстояние до конфликтов и интенсивность конфликта, измеряемые как количество конфликтов и количество жертв, влияли на отказ от сельскохозяйственных земель и последующую рекультивацию, путем объединения социальных, экологических и экономических переменных с картами сельскохозяйственных угодий, полученными с помощью дистанционного зондирования. изменять. Мы применили логистический и панельный регрессионный анализ как для Первой чеченской войны (1994–1996 гг.), так и для Второй чеченской войны (1999–2009 гг.) и взаимодействовали расстояние конфликта с показателями интенсивности конфликта. Мы обнаружили, что сельскохозяйственные земли, расположенные ближе к конфликтным зонам, с большей вероятностью будут заброшены и с меньшей вероятностью будут рекультивированы, что оказывает более сильное влияние на Первую чеченскую войну. Интенсивность конфликта положительно коррелировала с заброшенностью сельскохозяйственных земель, но последствия различались в зависимости от расстояния до конфликтов и показателя интенсивности.Мы обнаружили мало рекультивации после войн, несмотря на обильные субсидии, что указывает на потенциально долгосрочные последствия вооруженных конфликтов для землепользования. В целом, мы обнаружили четкую взаимосвязь между чеченскими войнами и отказом от сельскохозяйственных земель и их рекультивацией, что свидетельствует о сильном влиянии вооруженных конфликтов на сельское хозяйство.
Мы применили логистический и панельный регрессионный анализ как для Первой чеченской войны (1994–1996 гг.), так и для Второй чеченской войны (1999–2009 гг.) и взаимодействовали расстояние конфликта с показателями интенсивности конфликта. Мы обнаружили, что сельскохозяйственные земли, расположенные ближе к конфликтным зонам, с большей вероятностью будут заброшены и с меньшей вероятностью будут рекультивированы, что оказывает более сильное влияние на Первую чеченскую войну. Интенсивность конфликта положительно коррелировала с заброшенностью сельскохозяйственных земель, но последствия различались в зависимости от расстояния до конфликтов и показателя интенсивности.Мы обнаружили мало рекультивации после войн, несмотря на обильные субсидии, что указывает на потенциально долгосрочные последствия вооруженных конфликтов для землепользования. В целом, мы обнаружили четкую взаимосвязь между чеченскими войнами и отказом от сельскохозяйственных земель и их рекультивацией, что свидетельствует о сильном влиянии вооруженных конфликтов на сельское хозяйство.
Ключевые слова
ключевых слов
сельскохозяйственные земли отказ
вооруженный конфликт
этнических конфликтов
изменение землепользования
повторное культивирование
WARFARE
Рекомендуемое соревнование Статьи (0)
Смотреть полный текст© 2019 Elsevier Ltd.Все права защищены.
Рекомендуемые статьи
Ссылки на статьи
Третья чеченская война неизбежна. Вопрос только когда [Мнение]
Проспект Владимира Путина в центре Грозного (Доминик К. Чагара/Архив) Казбек Чантурия — корреспондент OC Media в Чечне.После двух кровопролитных войн и крайне авторитарного правления Рамзана Кадырова многие в Кремле и за его пределами считают, что Чечня умиротворена. Однако после 300 лет сопротивления мало кто в Чечне сомневается, что борьба против России продолжится.
Восьмого марта исполнилось 12 лет со дня смерти Аслана Масхадова. Масхадов был президентом Чеченской Республики Ичкерия — чеченского сепаратистского правительства, возникшего после распада Советского Союза. Его смерть была воспринята многими в России как поворотный момент во Второй чеченской войне. Однако, несмотря на официальное окончание войны, Россия все еще должна содержать в Чечне огромный военный контингент, чтобы умиротворять ее.
Его смерть была воспринята многими в России как поворотный момент во Второй чеченской войне. Однако, несмотря на официальное окончание войны, Россия все еще должна содержать в Чечне огромный военный контингент, чтобы умиротворять ее.
Масхадов был убит 8 марта 2005 г. во время нападения элитной группы «Альфа» Федеральной службы безопасности на дом в поселке Толстой-Юрт, примерно в 15 км к северу от Грозного.Масхадов прятался в бункере, когда, по официальной версии событий, Масхадова застрелил его племянник и телохранитель Висхан Хаджимуратов. В этом Хаджимуратов признался во время суда, заявив, что сделал это по просьбе дяди, так как не хотел, чтобы его взяли живым и испытали судьбу Саддама Хусейна.
Из республики в эмират
Преемник Масхадова Абдул-Халим Садулаев был убит в ходе вооруженного столкновения чуть более чем через год после прихода к власти, а за ним последовал Докку Умаров, который упразднил Республику Ичкерия, заменив ее решительно более исламистским Имаратом Кавказ и назвав для глобальной борьбы против государств, преследующих мусульман.
Это привело к серьезному расколу в чеченском движении сопротивления. Республика Ичкерия оставалась в изгнании при Ахмеде Закаеве, и взаимные обвинения между ними и Имаратом Кавказ продолжаются до сих пор, несмотря на то, что почти все руководители Чеченского государства погибли. Закаев утверждает, что «Имарат Кавказ» — проект российских спецслужб. Он утверждает, что главная цель России — скомпрометировать чеченское национально-освободительное движение перед международным сообществом.
Убийство лидеров мятежа породило иллюзию победы, которая трансформировалась в твердую веру в то, что чеченское сопротивление не только сломлено, но и что чеченцы стали искренними патриотами России.
«Наша сила в единстве». Плакат в центре Грозного (Доминик К. Чагара/Архив)Третья война неизбежна
На протяжении последних 200–300 лет отношения России и Чечни развивались примерно по одному и тому же сценарию. Сначала боевые действия, унесшие десятки тысяч жизней с обеих сторон, а затем хрупкий мир в обмен на подчинение. И так до следующего восстания детей и внуков бывших борцов за независимость.
И так до следующего восстания детей и внуков бывших борцов за независимость.
В Чечне мало кто сомневается в неизбежности третьей войны. Вопрос только когда. Этому способствует политика Кремля на Северном Кавказе и особенно в Чечне. Это мнение широко распространено, от простых обывателей до региональных экспертов, хотя большинство из них не готовы озвучивать его под своими настоящими именами.
Магомед, учитель истории чеченской школы:
«Когда мы обсуждаем, будет третья война или нет, я сразу вспоминаю слова [чеченского] полевого командира Руслана Гелаева.Русские спросили его, почему они так злы на Россию, и он ответил: «Мы злы? Подождите, пока наши сыновья вырастут, и вы поймете, что их отцы были хорошими». Теперь у нас есть новое поколение, которое воспринимает смерть за джихад как большую радость. Они растут, и их дети тоже растут. Невозможно предсказать ни их поведение, ни управляемость», — сказал Магомед OC Media .
Нынешняя официальная власть Чечни в лице ее главы Рамзана Кадырова навела в Чечне жесткий, зачастую жестокий порядок. Этот порядок стал причиной того, что республика, полностью разрушенная во время войн, была восстановлена в столь короткие сроки. Это явление остается визитной карточкой чеченского правительства. В то же время удушение личных свобод и состояние полнейшего террора порождают неожиданные вспышки гнева, как, например, декабрьское нападение молодых чеченцев на сотрудников милиции в Грозном. Они происходят спонтанно и не координируются каким-либо вышестоящим органом. Некоторые люди предпочитают смерть жизни в кадыровской Чечне.
Этот порядок стал причиной того, что республика, полностью разрушенная во время войн, была восстановлена в столь короткие сроки. Это явление остается визитной карточкой чеченского правительства. В то же время удушение личных свобод и состояние полнейшего террора порождают неожиданные вспышки гнева, как, например, декабрьское нападение молодых чеченцев на сотрудников милиции в Грозном. Они происходят спонтанно и не координируются каким-либо вышестоящим органом. Некоторые люди предпочитают смерть жизни в кадыровской Чечне.
Аюб, бизнесмен:
«Когда русские убили [чеченских лидеров] Дудаева, Яндарбиева, Масхадова, Умарова, Басаева, они заявили, что война окончена, сопротивление обезглавлено, движение рассеется или сдастся. И что? Прекратились ли теракты в России или воинственность угасла? Перестали ли [российские] солдаты и полицейские гибнуть? Как бизнесмен, я против любой физической силы, потому что знаю, что чем сильнее ты давишь, тем сильнее кто-то будет давить в ответ. Человек ничего не может с этим поделать, разве что сесть и подумать, почему чеченцы всегда воюют с Россией. Это один из фундаментальных законов физики», — сказал Аюб OC Media .
Человек ничего не может с этим поделать, разве что сесть и подумать, почему чеченцы всегда воюют с Россией. Это один из фундаментальных законов физики», — сказал Аюб OC Media .
Власти Чечни приложили немало усилий для «духовно-нравственного воспитания» подрастающего поколения. Эти усилия не смогли вызвать доверие к властям ни у детей, ни у родителей. Они сосредоточены на том, чтобы навязать идею о том, что в любой ситуации необходимо смиренно принимать действия правительства.Часто цитируются хадисы, в которых говорится, что любой авторитет исходит от Бога, а любое сопротивление равносильно богохульству. Даже ярые противники ичкерийской власти признают, что при их правлении, с момента его возникновения и до смерти Масхадова, была настоящая демократия, и каждый чеченец мог открыто сказать, что он думает о власти. Достаточно вспомнить заявление отца-основателя республики Джохара Дудаева о том, что он «миллион и первый» среди нации генералов. Это резко контрастирует с кадыровским стилем руководства «Я за рулем и никто другой».
Вахид, житель Чечни:
‘В детстве мой отец и дед говорили, что мы не можем победить Россию силой, потому что она всегда воевала грязно. Нужно немного терпения и размеренных шагов. Россия уже трещит по швам и можно не сомневаться, что она развалится. К этому нужно быть готовым, чтобы не страдать от последствий. Мы должны научиться терпению у наших предков. Мы должны подождать», — сказал Вахид OC Media .
Чеченцы могут сто раз присягать России, но делают это по принуждению. Кадыров прав, когда говорит, что Путин спас чеченцев от уничтожения; он остановился на дюйм, прежде чем вытереть их. Вот почему искра ненависти к тем, кто принес на их Родину две жестокие войны, унесшие жизни около 300 тысяч человек, никогда не угасала в глубине народной души. Если нынешнее поколение чеченцев не напомнит об этом России, то обязательно напомнят их дети.
Стойкость российской и чеченской тактики
Ныне затухающий конфликт между Россией и Чечней представляет собой непрерывный цикл сопротивления и репрессалий. [1] На протяжении эпох империализма, социализма и федерации жители Северного Кавказа притупляли российское острие посредством асимметричной войны. В основе боевой доктрины чеченцев лежит практика захвата заложников. Со времени первых вторжений России в регион горцы превратили обмен похищенными в плодотворное предприятие.Их имперские противники последовали их примеру, используя кавказские методы для подавления кавказских беспорядков. Эта продолжающаяся торговля жизнями будет дополнена торговлей смертями в девятнадцатом веке, а во время Кавказской войны терроризм стал карательной мерой, применяемой как чеченцами, так и русскими. Зверства «око за око», совершенные как славянами, так и кавказцами, послужили поводом для войны, продолжавшейся далеко за пределами имперской эпохи.
Однако события недавних чеченских войн, похоже, выходят за рамки этой исторической тактики. Мировые СМИ приписывают захват заложников в театре на Дубровке в 2002 году и в бесланской школе номер один в 2004 году иностранным боевикам-ваххабитам. С другой стороны, консолидация Путиным власти над внутренними новостными агентствами привела к занижению государственного терроризма, совершаемого российскими войсками. [2] Тем не менее, пытаясь рационализировать жуткую тактику недавних чеченских войн, мы должны изучить исторические прецеденты терроризма и захвата заложников на Кавказе.
Мировые СМИ приписывают захват заложников в театре на Дубровке в 2002 году и в бесланской школе номер один в 2004 году иностранным боевикам-ваххабитам. С другой стороны, консолидация Путиным власти над внутренними новостными агентствами привела к занижению государственного терроризма, совершаемого российскими войсками. [2] Тем не менее, пытаясь рационализировать жуткую тактику недавних чеченских войн, мы должны изучить исторические прецеденты терроризма и захвата заложников на Кавказе.
Имперская эра
Практика похищения людей горскими племенами была обычным явлением задолго до их контакта со славянами. Существенным для междеревенских кавалерийских рейдов, или набеги , был захват заложников в качестве залога. [3] Похищение было культурной неотъемлемой частью региона — мифология альпинистов изображала «спортивное воровство» как героическое, исконное занятие. Кавказский захват заложников также имел прецеденты в практике похищения невест, которые горцы унаследовали от арабских, тюркских и монгольских народов, просочившихся через регион с течением времени. [4] Горцы с готовностью распространили такие методы в середине шестнадцатого века, когда Иван Грозный послал в регион первых казаков-поселенцев. Непредсказуемая угроза набегов терроризировала царские экспедиции. Большинство русских пленников были проданы с аукциона в рамках османской работорговли, что делало набеги горцев прибыльным делом. К 1551 году царство ввело общегосударственный налог для выплаты выкупа за похищенных, а казаки взяли дело в свои руки, взяв в заложники чеченских военнопленных.В первой половине XVII века в плен к горцам попало от 150 до 200 тысяч русских. [5] Эти массовые похищения позже прекратились при правлении Романовых с созданием оборонительной линии Северного Кавказа в следующем столетии. Периметр состоял из казачьих гарнизонов и сторожевых вышек вдоль реки Терек и позволял славянам и кавказцам постепенно смешиваться по мере ослабления боевых действий. Законная торговля в значительной степени заменила обмен пленными. [6]
[4] Горцы с готовностью распространили такие методы в середине шестнадцатого века, когда Иван Грозный послал в регион первых казаков-поселенцев. Непредсказуемая угроза набегов терроризировала царские экспедиции. Большинство русских пленников были проданы с аукциона в рамках османской работорговли, что делало набеги горцев прибыльным делом. К 1551 году царство ввело общегосударственный налог для выплаты выкупа за похищенных, а казаки взяли дело в свои руки, взяв в заложники чеченских военнопленных.В первой половине XVII века в плен к горцам попало от 150 до 200 тысяч русских. [5] Эти массовые похищения позже прекратились при правлении Романовых с созданием оборонительной линии Северного Кавказа в следующем столетии. Периметр состоял из казачьих гарнизонов и сторожевых вышек вдоль реки Терек и позволял славянам и кавказцам постепенно смешиваться по мере ослабления боевых действий. Законная торговля в значительной степени заменила обмен пленными. [6]
Отношения между горцами и Российской империей ухудшились в начале девятнадцатого века, что побудило чеченцев прибегнуть к набеги в целях самообороны. В 1816 году ура-патриотический генерал Алексей Ермолов был назначен командующим Кавказскими операциями. Предвидя покорность горцев царской власти, он хвастался перед царем: «Хочу, чтобы ужас имени моего мог крепче охранял наши границы, нежели цепи и крепости. [7] Ермолов разжег многолетнюю Кавказскую войну, приказав своим солдатам продвигаться за Северо-Кавказскую линию. Русские усилили свое наступление, построив крепости, такие как Грозный, базу на реке Сунжа, печально известную резней сотен горцев за одну ночь. [8] Ермолов также присвоил себе горский метод захвата заложников. Он вел переговоры в пользу Павла Швецова, офицера, похищенного во время набега , бессистемно арестовывая большие группы жителей чеченских деревень и удерживая их в качестве контрзаложников до тех пор, пока мародеры не подчинились. [9] Кроме того, Ермолов отдал приказ о наступлении выжженной земли в горную местность, применяя террор и коллективные наказания горцев. Наиболее заметным из ответных ударов Ермолова была резня 1819 года в чеченском селении Дади-Юрт, организованная в ответ на то, что горцы угнали русских рабочих лошадей.
В 1816 году ура-патриотический генерал Алексей Ермолов был назначен командующим Кавказскими операциями. Предвидя покорность горцев царской власти, он хвастался перед царем: «Хочу, чтобы ужас имени моего мог крепче охранял наши границы, нежели цепи и крепости. [7] Ермолов разжег многолетнюю Кавказскую войну, приказав своим солдатам продвигаться за Северо-Кавказскую линию. Русские усилили свое наступление, построив крепости, такие как Грозный, базу на реке Сунжа, печально известную резней сотен горцев за одну ночь. [8] Ермолов также присвоил себе горский метод захвата заложников. Он вел переговоры в пользу Павла Швецова, офицера, похищенного во время набега , бессистемно арестовывая большие группы жителей чеченских деревень и удерживая их в качестве контрзаложников до тех пор, пока мародеры не подчинились. [9] Кроме того, Ермолов отдал приказ о наступлении выжженной земли в горную местность, применяя террор и коллективные наказания горцев. Наиболее заметным из ответных ударов Ермолова была резня 1819 года в чеченском селении Дади-Юрт, организованная в ответ на то, что горцы угнали русских рабочих лошадей. Горцы отказались сдаваться, поэтому казаки Ермолова сжигали дома и уничтожали их пушечным огнем. После разграбления Дади-Юрта солдаты захватили женщин и детей, а «в живых осталось только четырнадцать мужчин. [10] Ужасающее, непропорциональное применение силы, составляющее неотъемлемую часть «системы Ермолова», спровоцировало чеченские беспорядки, вышедшие за рамки понижения генерала в 1827 году, подготовив почву для Мюридской войны, следующей фазы кавказского конфликта. Репрессивная тактика Ермолова полностью подорвала себя. [11]
Горцы отказались сдаваться, поэтому казаки Ермолова сжигали дома и уничтожали их пушечным огнем. После разграбления Дади-Юрта солдаты захватили женщин и детей, а «в живых осталось только четырнадцать мужчин. [10] Ужасающее, непропорциональное применение силы, составляющее неотъемлемую часть «системы Ермолова», спровоцировало чеченские беспорядки, вышедшие за рамки понижения генерала в 1827 году, подготовив почву для Мюридской войны, следующей фазы кавказского конфликта. Репрессивная тактика Ермолова полностью подорвала себя. [11]
В следующем десятилетии племена Северного Кавказа объединились под властью аварских имамов, которые привлекли чеченцев и их тактику для сопротивления имперскому завоеванию. Единый кавказский имамат одержал победу благодаря доблести последнего имама Шамиля.Шамиль превратил набеги в мощную силу террора, уничтожая русские опорные пункты своей кавалерией и захватывая имперских солдат в плен в партизанских засадах. [12] Долговечность сопротивления мюридов была связана с мастерством имама Шамиля в аманати , дипломатическом использовании заложников. Шамиль сдерживал посягательства русских пленными имперскими солдатами, содержащимися в подземных ямах, или зиндан . [13] Во время боя в 1837 году у селения Тилитл в Дагестане войска Шамиля были окружены русской армией генерала Фесе.В обмен на временное перемирие он предложил своему русскому коллеге своих последних пленников; Фесе согласился прекратить осаду, дав Шамилю решающее время для отступления. Имам провозгласил: «Отдав заложников… мы заключили мир с русским императором». [14] Муриды использовали это решительное прекращение огня, чтобы восстановить свою крепость в Ашильте на границе с Чечней, удерживая Шамиля в войне. [15] Шамиль также использовал аманата в 1854 году, захватив двух грузинских принцесс, чтобы вернуть своего сына, взятого в заложники русскими. [16] Хотя Шамиль был разгромлен в 1859 году, он продемонстрировал способность террора и захвата заложников в борьбе с численно превосходящими силами царя.
Шамиль сдерживал посягательства русских пленными имперскими солдатами, содержащимися в подземных ямах, или зиндан . [13] Во время боя в 1837 году у селения Тилитл в Дагестане войска Шамиля были окружены русской армией генерала Фесе.В обмен на временное перемирие он предложил своему русскому коллеге своих последних пленников; Фесе согласился прекратить осаду, дав Шамилю решающее время для отступления. Имам провозгласил: «Отдав заложников… мы заключили мир с русским императором». [14] Муриды использовали это решительное прекращение огня, чтобы восстановить свою крепость в Ашильте на границе с Чечней, удерживая Шамиля в войне. [15] Шамиль также использовал аманата в 1854 году, захватив двух грузинских принцесс, чтобы вернуть своего сына, взятого в заложники русскими. [16] Хотя Шамиль был разгромлен в 1859 году, он продемонстрировал способность террора и захвата заложников в борьбе с численно превосходящими силами царя.
Социалистическая эпоха
В начале ХХ века горцам был дан еще один шанс на свободу в суматохе русской революции. Тем не менее созданная ими Горская республика была хрупкой, и к 1920 году она попала под оккупацию Красной Армии. Чеченцы подняли восстание против своих большевистских гегемонов, однако репрессии советской тайной полиции обезглавили лидеров сопротивления и существенно разоружили население к началу сталинской пятилетки. -годовые планы. [17] Чтобы усилить коллективизацию сельского хозяйства в регионах в 1930-е годы, чекисты возродили тактику Мюридской войны, используя аманаты для дисциплинирования горцев. [18]
Тем не менее, русификация и советское преследование ислама приведут к еще одному чеченскому восстанию, которое совпало с нацистским вторжением в Советский Союз. В 1944 году Сталин ввел коллективные наказания в отместку за кавказское «сотрудничество» с немецким врагом. [19] Операция «Чечевица», массовая депортация НКВД горцев в Казахскую и Киргизскую ССР, была тоталитарным обновлением ермоловской стратегии этнических чисток. Механизировав имперскую практику государственного терроризма, Советы фактически деморализовали дело Чечни. Систематический принудительный труд и воздействие стихии убили примерно 144 704 человека из примерно 650 000, переселенных в «спецпоселения». [20] После десталинизации выжившим было разрешено вернуться на родину, но они были подавлены десятилетиями советской идеологической обработки, направленной на уничтожение их культурной идентичности.Но среди националистического духа времени горбачевской эры горцы снова были очарованы сепаратистскими амбициями. [21]
Механизировав имперскую практику государственного терроризма, Советы фактически деморализовали дело Чечни. Систематический принудительный труд и воздействие стихии убили примерно 144 704 человека из примерно 650 000, переселенных в «спецпоселения». [20] После десталинизации выжившим было разрешено вернуться на родину, но они были подавлены десятилетиями советской идеологической обработки, направленной на уничтожение их культурной идентичности.Но среди националистического духа времени горбачевской эры горцы снова были очарованы сепаратистскими амбициями. [21]
Федеральная эпоха
Традиционная тактика Кавказской войны возродилась, когда чеченцы поднялись в знак солидарности с распавшимся Советским Союзом и провозгласили в 1991 году независимую Чеченскую Республику Ичкерия. Когда Борис Ельцин направил силы вторжения в зарождающуюся страну Джохара Дудаева в 1994 году, аманаты стали жизнеспособными, исторически проверенными методами резистентности. Взятие заложников вновь всплыло во время Первой чеченской войны, когда легковооруженные партизаны нападали на колонны, похищая плохо подготовленных российских призывников. [22] Используя метод контрзаложников Ермолова, российские солдаты похищали жителей чеченских деревень и использовали их против полевых командиров — эта практика обменни фонда часто включала задержание случайных гражданских лиц. [23] Таким образом, обмен пленными процветал в условиях волнений Первой чеченской войны, сохраняя методы, разработанные во время Швецовского инцидента почти за два столетия до этого.
Взятие заложников вновь всплыло во время Первой чеченской войны, когда легковооруженные партизаны нападали на колонны, похищая плохо подготовленных российских призывников. [22] Используя метод контрзаложников Ермолова, российские солдаты похищали жителей чеченских деревень и использовали их против полевых командиров — эта практика обменни фонда часто включала задержание случайных гражданских лиц. [23] Таким образом, обмен пленными процветал в условиях волнений Первой чеченской войны, сохраняя методы, разработанные во время Швецовского инцидента почти за два столетия до этого.
Понеся значительные потери, Российская Федерация вновь ввела в строй террористическую систему «Ермолов». Армия вела войну на уничтожение; Шовинизм был почти так же распространен при администрации Ельцина, как и в начале девятнадцатого века. [24] Когда повстанцы оттеснили первое российское наступление из чеченской столицы Грозного, Кремль в ответ отдал приказ разрушить город путем беспорядочной бомбардировки, в ходе которой погибло 25 000 мирных жителей. На том самом месте, где Ермолов построил свой первый форт в 1818 году, беспощадные артиллерийские удары вторили браваде имперского генерала. [25] Эта жестокая кампания террора совершенно не смогла подавить чеченский мятеж, зато укрепила решимость горцев.
На том самом месте, где Ермолов построил свой первый форт в 1818 году, беспощадные артиллерийские удары вторили браваде имперского генерала. [25] Эта жестокая кампания террора совершенно не смогла подавить чеченский мятеж, зато укрепила решимость горцев.
С другой стороны, современную вместимость аманатов подтвердил военачальник Шамиль Басаев, заместитель Дудаева. К середине 1995 года чеченские части были отброшены в горы и расколоты артиллерийскими обстрелами российской армии.14 июня того же года Басаев повел отряд горцев в город Буденновск Ставропольского края; они держали 1600 жителей под прицелом и загнали их в местную больницу, требуя немедленного прекращения огня и организации мирных переговоров. После неудавшегося рейда российских спецназовцев Басаев казнил заложников и использовал живые щиты для предотвращения дальнейших попыток. Через пять дней Ельцин уступил, предоставив боевикам беспрепятственный проход в Чечню. Действия Басаева оказались решающими для военных действий. [26] Истощенное чеченское движение сопротивления восстановило силы во время перемирия и в следующем году набрало силы, чтобы выбить российские войска из Грозного. [27] Нарушив международное гуманитарное право, Шамиль Басаев обновил тактику своего однофамильца. Точно так же, как имам Шамиль сдерживал русские силы в Тилитле, освобождая пленников, Басаев 158 лет спустя использовал заложников для вымогательства у администрации Ельцина, продемонстрировав тактическую надежность аманатов во время Первой чеченской войны.
[26] Истощенное чеченское движение сопротивления восстановило силы во время перемирия и в следующем году набрало силы, чтобы выбить российские войска из Грозного. [27] Нарушив международное гуманитарное право, Шамиль Басаев обновил тактику своего однофамильца. Точно так же, как имам Шамиль сдерживал русские силы в Тилитле, освобождая пленников, Басаев 158 лет спустя использовал заложников для вымогательства у администрации Ельцина, продемонстрировав тактическую надежность аманатов во время Первой чеченской войны.
В октябре 1999 года Россия вновь вторглась в Чечню под предводительством Владимира Путина. Военная операция была «оправдана» серией взрывов жилых домов по всей России, ответственность за которые сразу же возложили на Басаева и его сторонников, поэтому Кремль с готовностью окрестил конфликт «войной против международного терроризма». [28] Презираемые генералом Ермоловым «смелые и опасные люди» подвергались преследованию под более современным названием «террористы». [29] Правительство Чечни рухнуло после хорошо организованного путинского вторжения, что привело к новому мятежу. Чеченские засады были стремительны, набегов беспокоили российские отряды; после их наездов и бегства партизаны бежали через близлежащие деревни в горы. Эти «коллаборационистские» общины коллективно наказывались обстрелами российской артиллерии, зачастую далеко после ухода боевиков. Одним из таких сел был Дуба-Юрт, который был разрушен федеральными войсками в феврале 2000 года «из мести и горькой скорби по погибшим товарищам. [30] В том же месяце жители г. Новые Алды обратились к местному русскому отряду с ходатайством о прекращении артобстрелов. На следующий день силы милиции особого назначения провели контртеррористическую «зачистку», наугад снося и грабя домохозяйства. Без провокации солдаты расстреляли 56 мирных жителей. [31] Стратегические инициативы, стоящие за такой тактикой возмездия, аналогичны инициативам, стоявшим за нападением Ермолова на Дади-Юрт в 1819 году.
[29] Правительство Чечни рухнуло после хорошо организованного путинского вторжения, что привело к новому мятежу. Чеченские засады были стремительны, набегов беспокоили российские отряды; после их наездов и бегства партизаны бежали через близлежащие деревни в горы. Эти «коллаборационистские» общины коллективно наказывались обстрелами российской артиллерии, зачастую далеко после ухода боевиков. Одним из таких сел был Дуба-Юрт, который был разрушен федеральными войсками в феврале 2000 года «из мести и горькой скорби по погибшим товарищам. [30] В том же месяце жители г. Новые Алды обратились к местному русскому отряду с ходатайством о прекращении артобстрелов. На следующий день силы милиции особого назначения провели контртеррористическую «зачистку», наугад снося и грабя домохозяйства. Без провокации солдаты расстреляли 56 мирных жителей. [31] Стратегические инициативы, стоящие за такой тактикой возмездия, аналогичны инициативам, стоявшим за нападением Ермолова на Дади-Юрт в 1819 году. Чтобы расправиться с народом горцев, террор в очередной раз боролся с терроризмом.
Чтобы расправиться с народом горцев, террор в очередной раз боролся с терроризмом.
Захват заложников также был важным элементом тактики борьбы с повстанцами во время Второй чеченской войны. Солдаты Путина вошли в доходную кавказскую индустрию выкупа через «зачистки» зачисток . Под видом поиска террористов российские патрули окружали чеченские села бронетехникой, прогоняя мирных жителей через «временные фильтрационные пункты», где «боевиков» арестовывали и пытали электрошоком, избиениями и инсценировкой казни. [32] В селе Махеты солдаты импровизировали зиндан с мусорными ямами для хранения заключенных — их отпустили, как только община накопила достаточно денег, чтобы расплатиться с русскими. Если обременительный выкуп не выплачивался вовремя, «боевики» исчезали. [33] Z Чистки превратили исторически прибыльную торговлю пленными в инструмент репрессий.
Первоначально использование Россией государственного терроризма против чеченцев в двадцать первом веке было столь же неэффективным, как и в девятнадцатом веке. Беспощадные коллективные наказания и зачистки привели к тому, что отчаянные сепаратисты вернулись в террористические аманаты . [34] Мовсар Бараев, аффилированный с Басаевым, возглавлял отряд чеченских боевиков для захвата театра на Дубровке в Москве в октябре 2002 года. 979 заложников, а именно детей и беременных женщин, добросовестно. [35] Федеральная служба безопасности решила иначе, закачав в театр газ на основе фентанила, ликвидировав всех сепаратистов и 139 их пленников.Хотя многие из этих боевиков потеряли целые семьи в результате российских операций, государство и мировые СМИ связали инцидент с международным исламским терроризмом. [36] Продолжая придерживаться системы мстительного Ермолова, русские солдаты расстреляли гражданского администратора Алхан-Калы, села Бараева. [37]
Беспощадные коллективные наказания и зачистки привели к тому, что отчаянные сепаратисты вернулись в террористические аманаты . [34] Мовсар Бараев, аффилированный с Басаевым, возглавлял отряд чеченских боевиков для захвата театра на Дубровке в Москве в октябре 2002 года. 979 заложников, а именно детей и беременных женщин, добросовестно. [35] Федеральная служба безопасности решила иначе, закачав в театр газ на основе фентанила, ликвидировав всех сепаратистов и 139 их пленников.Хотя многие из этих боевиков потеряли целые семьи в результате российских операций, государство и мировые СМИ связали инцидент с международным исламским терроризмом. [36] Продолжая придерживаться системы мстительного Ермолова, русские солдаты расстреляли гражданского администратора Алхан-Калы, села Бараева. [37]
Путин упорно избегал повторения позора Буденновска; последующий побочный ущерб простителен в его войне с террором. Преувеличение ваххабитского экстремизма оправдывало отказ Кремля вести переговоры с чеченцами. Чеченские сепаратисты, признанные правительством иррациональными субъектами, не могли использовать аманатов . [38] По словам самого Путина: «Россия не ведет переговоров с террористами. Это уничтожает их». [39] Во время следующего крупного захвата Басаевым заложников в сентябре 2004 г. в бесланской школе номер один в Северной Осетии российское правительство заблокировало участников переговоров и ограничило освещение в прессе; государственные СМИ ложно сообщили, что Басаев не выдвигал никаких требований. В неминуемом штурме погибло 334 пленных, из них 186 детей. [40] Сделка с заложниками была признана не подлежащей обсуждению, поскольку чеченский национализм был приравнен к глобальному исламскому терроризму, ведь даже западные СМИ провозгласили Беслан «российским 11 сентября». [41] Сепаратисты по-прежнему отчаянно стремились к переговорам, ибо Басаев повторил: «Я не террорист… Я обычный чеченец, который с оружием в руках поднялся на защиту своего народа».
Чеченские сепаратисты, признанные правительством иррациональными субъектами, не могли использовать аманатов . [38] По словам самого Путина: «Россия не ведет переговоров с террористами. Это уничтожает их». [39] Во время следующего крупного захвата Басаевым заложников в сентябре 2004 г. в бесланской школе номер один в Северной Осетии российское правительство заблокировало участников переговоров и ограничило освещение в прессе; государственные СМИ ложно сообщили, что Басаев не выдвигал никаких требований. В неминуемом штурме погибло 334 пленных, из них 186 детей. [40] Сделка с заложниками была признана не подлежащей обсуждению, поскольку чеченский национализм был приравнен к глобальному исламскому терроризму, ведь даже западные СМИ провозгласили Беслан «российским 11 сентября». [41] Сепаратисты по-прежнему отчаянно стремились к переговорам, ибо Басаев повторил: «Я не террорист… Я обычный чеченец, который с оружием в руках поднялся на защиту своего народа». [42] Утверждая, что чеченцы были ненадежными экстремистами, российское правительство отвергло историческое решение аманатов и задушило сепаратистские призывы к миру.
[42] Утверждая, что чеченцы были ненадежными экстремистами, российское правительство отвергло историческое решение аманатов и задушило сепаратистские призывы к миру.
Заключение
Таким образом, российско-чеченские боевые действия характеризовались террористическими актами возмездия и в XXI веке, в результате которых погибли тысячи комбатантов и мирных жителей. Несмотря на неверно истолкованные заявления об иностранном исламском терроризме в Москве или Беслане, вопиющие военные преступления, совершаемые как российскими, так и чеченскими воюющими сторонами, редко были беспрецедентными по мотивам и исполнению. После этого предсказуемого возрождения отнятия жизней и обмена ими кажется, что система Ермолова преодолела туземную тактику горцев.Противоповстанческая доктрина бомбардировок и зачисток , возможно, осуществила амбиции Ермолова, ибо Басаев и его соратники погибли. Поскольку регион находится под властью чеченского военачальника и сторонника Путина Рамзана Кадырова, сепаратистское движение бездействует, завершая еще одну главу российско-чеченского конфликта. При этом невозможно установить, побежден ли «смелый и опасный» дух чеченцев; ведь история доказала упорство горцев после десятилетий российской гегемонии.Если сепаратистские устремления снова вернутся, чеченцы могут спровоцировать новый цикл сопротивления и репрессалий, используя в своем распоряжении устрашающую традиционную тактику набеги и аманаты .
При этом невозможно установить, побежден ли «смелый и опасный» дух чеченцев; ведь история доказала упорство горцев после десятилетий российской гегемонии.Если сепаратистские устремления снова вернутся, чеченцы могут спровоцировать новый цикл сопротивления и репрессалий, используя в своем распоряжении устрашающую традиционную тактику набеги и аманаты .
Каталожные номера
Ахмадов, Ильяс и Мирьям Ланских. «Торговля заложниками». В Чеченская борьба Независимость завоевана и потеряна . Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан, 2010.
.Баддели, Джон Ф. Русское завоевание Кавказа .Лондон: Лонгман, 1908.
.Бойкевич, Стивен. «Россия после Беслана». Ежеквартальный обзор Вирджинии , 81, вып. 1 (зима 2005 г.). https://www.vqronline.org/dispatch/russia-after-beslan
Данлоп, Джон Б. Россия противостоит Чечне: корни сепаратистского конфликта. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1998.
Дзуцати, Валерий. «Несмотря на упадок повстанческого движения на Северном Кавказе, российские власти по-прежнему настороженно относятся к его остаткам». Eurasia Daily Monitor , 17 №.71 (2020). https://jamestown.org/program/despite-demise-of-insurgency-in-north-caucasus-russian-authorities-still-wary-of-its-remnants/
Евангелиста, Мэтью. Чеченские войны: пойдет ли Россия по пути Советского Союза? Вашингтон: Brookings Institution Press, 2002.
Гиллиган, Эмма. Террор в Чечне: Россия и трагедия мирных жителей на войне. Принстон: Издательство Принстонского университета, 2010.
Грант, Брюс. Пленник и дар: культурные истории суверенитета в России и на Кавказ .Итака: Издательство Корнельского университета, 2009.
.Кинг, Чарльз. Призрак свободы: История Кавказа . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2008.
. Мейер, Эндрю. Чечня: В самое сердце конфликта . Нью-Йорк: WW Norton, 2003.
Нью-Йорк: WW Norton, 2003.
Мур, Сервин. «Борьба с повстанцами и захватом заложников на Северном Кавказе». The Central Asia-Caucasus Analyst , 23 августа 2006 г.
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/11013-analytical-articles-caci-analyst-2006-8-23-art-11013.html
Политковская Анна. Уголок в аду: депеши из Чечни . Перевод Александра Барри и Татьяны Тульчинской. Чикаго: University of Chicago Press, 2003.
.«Россия никогда не вела переговоров с террористами, включая лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова». Президент России. 6 февраля 2004 г. http://en.kremlin.ru/events/president/news/30315
Тофт, Моника Д.и Юрий М. Жуков. «Исламисты и националисты: повстанческая мотивация и борьба с повстанцами на Северном Кавказе в России». Американское обозрение политических наук , 109 №. 2 (2005). https://scholar.harvard.edu/files/zhukov/files/toftzhukov_2013_0.pdf
Примечания
[1] Дзуцати, «Несмотря на прекращение повстанческого движения на Северном Кавказе, российские власти по-прежнему настороженно относятся к его остаткам».
[2] Бойкевич, «Россия после Беслана . »
[3] Мур, «Борьба с повстанцами и захватом заложников на Северном Кавказе».
[4] Грант, Пленник и дар: культурные истории суверенитета в России и на Кавказе , 67-68.
[5] Там же, 23.
[6] Король, Призрак свободы: История Кавказа , 30-41.
[7] Данлоп, Россия противостоит Чечне: корни сепаратистского конфликта , 14.
[8] Baddeley, Русское завоевание Кавказа , 107-108.
[9] Король, 54.
[10] Баддели, 132.
[11] Данлоп, 17.
[12] Кинг, 80-81.
[13] Мейер, Чечня: В суть конфликта , 39.
[14] Баддели, 302-305.
[15] Там же, 306-307.
[16] Кинг, 58.
[17] Там же, 187.
[18] Данлоп, 51-52.
[19] Там же, 57.
[20] Там же, 62-70.
[21] Король, 211.
[22] Evangelista, Чеченские войны: пойдет ли Россия по пути Советского Союза? , 37-39.
[23] Ахмадов и Ланской, Чеченская борьба: завоеванная и потерянная независимость , 102.
[24] Евангелиста, 33.
[25] Кинг, 235-237.
[26] Гиллиган, Террор в Чечне: Россия и трагедия мирных жителей в войне , 127-129.
[27] Евангелиста, 40-42.
[28] Гиллиган, 206.
[29] Данлоп, 14.
[30] Политковская, Маленький уголок в аду: депеши из Чечни , 46.
[31] Гиллиган, 55-58.
[32] Там же, 62-65.
[33] Политковская, 47-50.
[34] Тофт и Жуков, «Исламисты и националисты», 25.
[35] Гиллиган, 134.
[36] Там же, 135.
[37] Политковская, 222.
[38] Тофта и Жукова, 21.
[39] Президент России.
[40] Бойкевич.
[41] Гиллиган, 143.
[42] Там же, 129.
Написано в: Colgate University
Написано для: профессора Элис Нахимовски
Дата написания: декабрь 2019 г.
Дополнительная литература по электронным международным отношениям
Расширяющаяся роль Чечни в Сирии — Глубоко в Сирии
За последний год Чечня значительно расширила свою роль и плацдарм в Сирии, включая финансирование реконструкции крупных сирийских мечетей и развертывание высококвалифицированных чеченских вооруженных сил на самые сложные линии фронта.
ТБИЛИСИ – Международные субъекты готовятся использовать новые реалии в Сирии и укреплять свое участие в восстановлении страны. Однако среди обычного состава мировых игроков появился новый претендент: Чечня.
Хотя может показаться странным обсуждать российский субъект федерации на одном дыхании с независимыми государствами, уровень недавнего взаимодействия Сирии с чеченскими властями беспрецедентен. Роль Чечни в Сирии и ее лидера Рамзана Кадырова за последний год значительно возросла: чеченские вооруженные силы играют решающую роль в зонах деэскалации, значительно укрепились дипломатические отношения.Хотя Москва утверждает, что санкционировала большую часть этого участия, интерес Чечни к стране выходит далеко за рамки официальных заявлений Кремля.
Для Чечни Сирия отчасти является продолжением внутренней борьбы между правительственными войсками и повстанцами. Жестокое отвоевание Россией сепаратистской Чечни в 2000 году положило начало длительному мятежу против поддерживаемых Москвой правительственных войск, в ходе которого отец Кадырова перешел на сторону России (позже Кремль наградил Чечню постом президента).
Когда правительственные силы взяли верх дома, чеченские боевики-исламисты перенесли свои операции на новое поле боя. В 2014 году на конфликт в Сирии уехало не менее 600 чеченских боевиков, а также сотни чеченцев из Европы. Многие из них присоединились к так называемому «Исламскому государству», в том числе Умар аш-Шишани, печально известный «военный министр» группировки.
Хотя Кадыров заявлял о своем желании убить «этих чертей» в Сирии еще в октябре 2015 года, президент России Владимир Путин публично запретил ему вводить войска до прошлой зимы.(Однако за это время ИГИЛ утверждало, что казнило нескольких чеченских шпионов, действовавших от имени Кадырова.)
Военная полиция Чечни
Чеченские силы безопасности впервые публично были отправлены в Сирию в конце декабря 2016 года. К концу месяца примерно 500 военнослужащих находились в городе Алеппо, где российские СМИ показали, как они охраняют эвакуацию повстанцев и распределяют гуманитарную помощь. В феврале к этим войскам присоединился батальон из Ингушетии, российской северокавказской республики, граничащей с Чечней. С тех пор эти три батальона несколько раз меняли личный состав и рассредоточились по другим линиям фронта. Некоторых отправили в Манбидж для разрядки напряженности между поддерживаемыми США курдскими силами и поддерживаемыми Турцией повстанцами, в то время как другие руководили эвакуацией повстанцев из осажденного аль-Ваэра в Хомсе.
С тех пор эти три батальона несколько раз меняли личный состав и рассредоточились по другим линиям фронта. Некоторых отправили в Манбидж для разрядки напряженности между поддерживаемыми США курдскими силами и поддерживаемыми Турцией повстанцами, в то время как другие руководили эвакуацией повстанцев из осажденного аль-Ваэра в Хомсе.
Роль и количество чеченских боевиков увеличились в мае после того, как Россия, Турция и Иран достигли соглашения о зоне деэскалации. Россия направила дополнительно 400 чеченских военных полицейских в южную провинцию Дараа, а позже установила блокпосты с участием чеченцев в Восточной Гуте и недалеко от Растана, к северу от города Хомс.К концу июля Россия направила не менее четырех батальонов военной полиции из Северо-Кавказского региона в Сирию, заявил в июне министр обороны России Сергей Шойгу.
До недавнего времени чеченская военная полиция играла роль тылового гарнизона, но недавний инцидент в Идлибе, где базируются исламистские группировки с преобладающим участием чеченцев, такие как «Аджнад аль-Кавказ» и «Малхама Тактикал», указывает на более глубокое вмешательство, которое теперь включает насилие чеченцев против чеченцев .
Через шесть дней после того, как 29 российских военных полицейских установили два блокпоста в юго-восточной провинции Идлиб, боевики якобы «Джабхат ан-Нусра» (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ) начали атаку, окружив группу.На видео боя видно, как солдат с тюркским именем Алхан задыхается на земле под звуки исходящей стрельбы. Слышно, как оператор на видео говорит по-чеченски, а солдат с чеченским акцентом позже дает интервью о бое.
подразделения российского спецназа сменили военную полицию после нескольких часов напряженных боев. Сначала Россия отрицала заявления о потерях, но позже на той же неделе член отряда Магомед Тербулатов был похоронен в своем родном селе в Чечне.Тербулатов находился во второй раз в Сирии и служил в органах внутренних дел Чечни, что свидетельствует о значительном боевом опыте внутренних контртеррористических операций. В многочисленных сообщениях российских СМИ утверждается, что все чеченские силы в Сирии имеют предыдущий боевой опыт и прошли обучение в высших эшелонах подразделений российского спецназа.
чеченских подразделения «обладают опытом, навыками и возможностями, которых могут не быть у других подразделений», — сказал Максим Сучков, редактор российского освещения Al-Monitor.
В течение многих лет сражаясь с повстанцами дома, у них мало проблем с действиями в сирийской среде, а их суннитское исламское происхождение делает их более сговорчивыми для местного населения, добавил Сучков.
Религия и Реконструкция
Однако военная поддержка — это лишь один из способов взаимодействия чеченских властей с Дамаском. Кадыров позиционирует себя как лидер международного мусульманского сообщества, регулярно взаимодействующий с арабскими и другими мусульманскими странами от имени Москвы, и Сирия не является исключением.
сирийских религиозных деятеля неоднократно посещали столицу Чечни Грозный с середины 2016 года. 5 ноября сирийская религиозная делегация прибыла в Грозный для переговоров с чеченскими официальными лицами и студентами университетов. Сирийские официальные лица также недавно объявили о своем плане построить кампус Дамасского университета в Грозном.
чеченских чиновника, в том числе заместитель председателя Государственной Думы РФ Адам Делимханов и Великий муфтий Чечни Салах Межиев.Межиев даже принял обращение этнического русского солдата в ислам перед толпой зевак в Алеппо.
Фонд Ахмата Кадырова, государственная благотворительная организация Чечни, также профинансирует восстановление двух знаковых сирийских мечетей: мечети Халида ибн Валида в Хомсе и мечети Омейядов в Алеппо. Муфтий Грозного Махмуд Акем объявил в сентябре, что фонд выделит 14 миллионов долларов только на мечеть Омейядов, что вдвое превышает июльскую смету Сирии.
Расширение роли
За последние три месяца чеченские и сирийские официальные лица общались более регулярно, чем когда-либо прежде, в основном из-за недавнего стремления Кадырова репатриировать жен и примерно 350 детей северокавказских боевиков ИГИЛ, убитых в Сирии и Ираке.За этими усилиями наблюдает главный посланник Кадырова на Ближнем Востоке и переводчик Зиад Сабсаби, чеченец, родившийся в Алеппо, который в прошлом месяце заявил, что будет работать «до тех пор, пока все русские [граждане] не вернутся домой».
Хотя чеченские силы в настоящее время находятся во всех четырех сирийских зонах деэскалации, Россия может расширить свое присутствие в Идлибе, где российские силы ведут личные переговоры с ХТШ или вблизи Голанских высот. Чеченские боевики играли аналогичную роль, защищая южный сирийский район возле Аль-Танфа после управления войсками У.S. авиаудары по силам, поддерживаемым Ираном, и фотографии, на которых якобы изображена военная полиция в Кунейтре на границе с Израилем.
На данный момент все более автономные действия Кадырова вряд ли будут беспокоить Россию в Сирии, но могут создать зловещий прецедент для Москвы в других местах. Кадыров уже несколько лет выходит из-под контроля Кремля и недавно открыто выступил против официальной позиции России о невмешательстве в Мьянму, организовав акции протеста в Грозном и Москве.На внутреннем фронте новообретенная готовность Кадырова выражать оппозицию в сочетании с его доступом к тысячам лояльных, хорошо обученных сил безопасности, вероятно, гораздо больше беспокоит Россию.
